
Глава вторая
... cette grande et sublime passion.
Пушкин. Письмо Барону Геккерну. 26 января 1837 года.
I

Петербург великолепен и мрачен
Петербург великолепен и мрачен. Таким он показался мне при первом въезде, таким он сохранился навсегда в моем воспоминании.
Город русских императоров носит черты торжественной властности в стиле классического Рима, но только на фоне унылой и суровой природы, нарушающей своими тусклыми красками блеск атрибутов всемирного владычества. Каски, щиты и копья легионариев, рассыпанные по фризам дворцов и решеткам скверов, покрываются на целые месяцы густыми снеговыми шапками или тонут в мглистом тумане болотистых побережий Финского залива. Черные чугунные скакуны уныло стынут в желтых треугольниках казенных фронтонов, а белые крылатые гении беспомощно протягивают в утреннюю муть свои венки и пальмовые ветви. Вода, во всех направлениях обтекающая кварталы города и незримо размывающая его гранитные подножия, придает ему обличив самодержавного Амстердама. А вечные дожди отлагаются зловещими пятнами сырости на его пышных лепных фасадах и медленно растворяют фигурный алебастр его карнизов и архитравов.
И в довершение печальных контрастов этой искусственной столицы, огромное тяжеловесное и нарядное скопище дворцов, храмов, арок и колоннад опоясано грязными окраинами с их унылыми пустырями и нищими лачугами, угнетающими своей заброшенностью и беднотой.
Но при беглом обзоре город поражает своими размерами и убранством. Бесконечные улицы, огромные площади, прямые каналы, необычайный простор Невы, пышные купола и золотые стрелы башен, бронзовые колесницы и дорические капители - все это придает русской столице строгий и горделивый вид. Здесь всюду чувствуется жезл военного повелителя, превратившего свое обиталище в каменный лагерь, но не успевшего придать ему под слезливым северным небом прочность и завершенность мощных крепостных сооружений.
В утренний час, когда мы въезжали в Петербург, город был охвачен своеобразным оживлением. Во всех направлениях проносились курьеры и фельдъегеря, двигались караулы, маршировали военные части, растерянно торопились в свои департаменты чиновники, суетливо мелькали бесчисленные серенькие люди, покорные, озабоченные и запуганные. Где-то невидимо таились силы, приводившие в вихревое движение этих несчетных исполнителей чьей - то железной и неодолимой воли.
Эта прямолинейность, строгость и геометричность всей планировки города придает ему четкий, торжественный и пустынный вид. Как от всякой чрезмерной рассчитанности, от него веет холодной скукой. В римских атрибутах его чугунных решеток и каменных арок воплотилась бесстрастная жестокость Е ОСТ очных повелителей. Ужасающий лик безжалостного администратора, бросившего в финские трясины несокрушимые основы своей резиденции, до сих пор зловеще отпечатлен на ней. Это город для военных, царедворцев, сенаторов, чиновников и высшей государственной жандармерии. Это огромный и нарядный каменный ящик для самых страшных пружин правительственной машины.
Но это не город для поэта. Художник-фантаст, созерцатель образов, живописец слова, краски или звука должен без оглядки бежать из-под этих архитравов, перистилей и квадриг. Для артиста Петербург - страшное место. Мне всегда казалось, что этот гранитный палладиум императорской власти разобьет вдребезги каждого мечтателя, неосторожно забредшего в его неумолимый круг.
II
Оправившись с дороги, я решил первым делом повидаться с моим юным родственником. Я тотчас же отправил ему записку на Невский проспект в квартиру нидерландского посланника.
Через два часа, звеня палашом и блистая каской, ко мне с радостным смехом входил мой кузен.
Более пяти летя не видел Жоржа. Я расстался в 1830 году с неоперившимся юношей, почти школьником, тоненьким, белокурым и нежным. Меня встречал статный воин, окрепший в своих скитаниях, неожиданно представший предо мною во всем поразительном блеске своей мужественной красоты.
Я не мог скрыть своего восхищения. Д'Антеc, как оказалось, приехал ко мне прямо с развода в парадной форме императорского всадника. Он поразил меня роскошью своих сверкающих доспехов, облекавших его гибкую фигуру ослепительными покровами металлического костюма и венчавших его выточенную голову рыцарским шлемом с литым серебряным орлом.
Лицо его возмужало и как бы отлилось в свои законченные формы. Скульптурная голова с удлиненным и безукоризненным овалом, высоким золотящийся тупеем и пышными зачесами к вискам была поднята высоко с каким-то молодым и радостным задором. Голубые, совершенно прозрачные глаза, обрисованные с тою же отчетливостью, что и все черты этой на редкость законченной наружности, бросали прямо на собеседника играющие лучи беспечной удали и безудержного веселья. Его прежняя тоненькая и длинная фигура напрягла теперь свои крепкие мышцы и довела их до атлетической мощи и гладиаторской гибкости. Из-под гладкого панцыря с чешуйчатыми краями выступали могучие плечи, а мускулистые молодые руки были крепко облиты белым сукном мундира. Театральная форма царских кавалеристов с ее искрометными украшениями эполетов и полированным золотом кирасы сообщала стану этого петербургского гвардейца какую-то легендарную прелесть.
Я вдруг почувствовал, что Жорж д'Антес воспринял и выразил богатое северное наследие своей именитой родословной. По женской линии в его жилы влилась широкой струей кровь всевозможных титулованных фамилий старой Германии, уходящих своими корнями к рыцарским орденам крестоносцев. По отцу его род восходил к далеким выходцам с острова Готланда и терялся в туманных дебрях старинных шведских генеалогий. Я почувствовал, что во внешности его не было ничего французского, южного, галльского или романского. Очертания скандинавских скалистых островов словно отпечатлелись на энергичных изломах его профиля, и стальные отблески балтийских волн, казалось, отсвечивали на этом лице своей холодной игрою. Мне вспомнились витязи или боги норманнской мифологии с прозрачными глазами цвета морской воды и светлой гривой северных конунгов. Й пока он стоял передо мною, лучезарный и ослепительный, скрестив свои перчатки с раструбами над резною гардой эфеса, высоко подняв голову и солнечно сверкая зеркальной поверхностью своей брони, мне вспомнился Фритиоф старинных изображений, воин и завоеватель в крылатом шлеме и сквозной кольчуге, струящейся по его кованым членам.
После первых приветствий, восклицаний и быстрых взаимных расспросов Жорж рассказал мне обо всем, что произошло с ним с момента нашей разлуки. Это была повесть о необычайных приключениях, отважных поисках славы, неожиданных встречах и поразительной игре счастливых случайностей и чудесных совпадений.
III
Он начал с августа 1830 года.
Пять карет, увозивших Бурбонов из Франции, докатились, под эскортом горсти телохранителей, до Шербургской гавани. Парусный бриг был готов к отплытию, и верный паж герцогини Беррийской расстался со своей дамой. Он произнес на прощанье торжественную присягу легитимистов:
- Клянусь сделать все, что в моих силах, для восстановления и охраны законности и признаю за членами регентства право отнять у меня жизнь в случае предательства с моей стороны.
Получив вскоре бессрочный отпуск в Сен-Сирской школе, Жорж д'Антес вернулся на родину, в свой глухой и тихий Сульц.
Дядя Жозеф-Конрад поддерживал прочные связи с легитимистами. В Сульце знали все, что происходило при дворе низложенных Бурбонов.
Карлу X был предоставлен старинный шотландский замок Голи-Руд, в окрестностях Эдинбурга. Этот пасмурный дворец, занавешенный дождями и туманами, напоминал о печальной судьбе обитавших в нем некогда Стюартов. Жизнь потекла здесь замкнутая и томительная.
Привыкшая к балам, к празднествам, к веселому окружению своей свиты, герцогиня Беррийская изнемогала в изгнании. Она горела желанием вернуть утраченную корону своему сыну. И вот уже весною 1831 года в маленький приморский городок Англии начинают тайно паломничать французские легитимисты. Здесь изгнанная герцогиня завязывала первые узлы грандиозного политического заговора. Еще по пути в Шербург д'Антеc узнал, что в июльские дни она явилась к Карлу X в мужском костюме с двумя крохотными пистолетами за поясом, предлагая бежать в Вандею и поднять там народное восстание. Ее уговорили следовать в Шербург для отплытия в Англию. План нового шуанского движения в Вандее или Бретани был отсрочен. Теперь наступал момент для его осуществления.
Страстная душа итальянской авантюристки настойчиво требовала реванша и слепо верила в победу. Она во что бы то ни стало хотела стать французской регентшей, подобно своей знаменитой соотечественнице Катерине Медичи. Во всяком случае, как и та, она, кажется, была готова на новую Варфоломеевскую ночь, лишь бы возвратить престол своему сыну. Воспоминания о Вандее не переставали волновать ее...
И вот зимой 1832 года Жорж д'Антеc особым путем, через путешественников и таинственных посетителей, стал получать вести о своей честолюбивой повелительнице. В шифрованных письмах она сообщала ему о партии преданных ей сторонников, которые решили ближайшей же весною поднять южные провинции Франции, двинуться на север, захватывая власть в крупных городах, и, наконец, овладев Парижем, провозгласить низложение Орлеанов и воцарение Генриха V под регенством его матери.
Весной Жорж д'Антеc в величайшей тайне оставил Сульц, и явился на условленное свидание в Италию. При дворе герцога Моденского жила инкогнито главная заговорщица, собирая своих преданнейших сторонников.
Жорж услышал от вождей движения, тесно связанных с парижским комитетом карлистов, что все было подготовлено для переворота, и политический заговор вызрел для своего осуществления. Вандея, по их словам, бродила и мечтала свергнуть узурпатора, Бретань глухо клокотала и ждала переворота. Иностранные дворы были готовы всячески содействовать новой реставрации. "При малейшем успехе герцогини, ее поддержат",- заявил император Николай тайному посланцу легитимистов. Голландия и Португалия, заклятые враги Луи-Филиппа, обещали снабдить его противников оружием и деньгами после первой же победы. Необходимо было во что бы то ни стало добиться успеха.
По мнению вожаков, достаточно было герцогине показаться народу, чтобы во главе молчаливо преданных войск двинуться на Париж и снова занять престол Капетингов.
Д'Антеc с передовым отрядом сторонников герцогини оставил Тоскану и отправился в Вандею подготовлять движение. Необходимо было всюду рассеять прокламации "Марии-Каролины, регентши Франции".
В конце апреля корабль особого снаряжения перевозил заговорщиков с итальянского берега на побережье Марселя. Ночью был брошен якорь в глухой местности невдалеке от города. Герцогиня, закутанная в мужской плащ, высадилась на пустынном берегу. Часть ее свиты двинулась к городу и соединилась с местными роялистами. Марсель должен был подняться как один человек,- но он не поднялся. Неудачу объяснили трудностью развернуть восстание в большом портовом городе, переполненном полицейскими и шпионами.
Решено было двинуться в глубь деревень, на запад, к океану, в надежную Вандею и, может быть, прорваться дальше на север, в преданную Бретань.
"Раскройте врата счастью Франции!" - гласило торжественное воззвание к населению. Но врата не раскрывались, Народ не торопился проливать свою кровь за правнука Генриха IV.
Необходимо было ускорить события и дать сражение. Горсточка смельчаков сделала отчаянную попытку, и вооруженное столкновение двух партий, наконец, состоялось.
Бои под Шеном и Пенисьер решили дело. Роялисты были разбиты наголову. Герцогиня Беррийская бежала и скрылась в Нанте.
Остальное мне было известно и без Жоржа. Хитроумному Тъеру за 500 тысяч удалось купить секрет ее пребывания, и в ноябре она была арестована и заключена в укрепленный замок.
Политическому перевороту суждено было завершиться громким скандалом. В январе обнаружилось, что арестованная герцогиня беременна. Правительство Луи-Филиппа поторопилось разгласить этот неожиданный факт, столь чреватый политическими последствиями. Левые газеты открыто заговорили о срыве государственных планов герцогини. Некоторые листки иронизировали на тему о любвеобилии итальянки. Редактор республиканского "Corsaire" был вызван на дуэль журналистом правого лагеря. Арман Каррель в своем "National" вызвал к барьеру двенадцать легитимистов и, выйдя на поединок, был тяжело ранен. Началась эпидемия дуэлей, охватившая всю Францию. Карлисты шли в бой за герцогиню, республиканцы - во имя революции. Казалось, в политической жизни страны утверждались нравы Вальтер-Скотта.
Мода на дуэли была в то время в полном ходу.
Вызовы, барьеры, секунданты, Ле-Паж и Кухенрейтер... Мы начинаем теперь понемногу отвыкать от этого театрального обычая, стоившего жизни стольким горячим головам. В то время из военной среды поединки перешли в литературные круги, своеобразно окрашивая мирные нравы старых редакций. Стреляться стало модным явлением для журналистов и поэтов. Бреттерство считалось в те годы одним из признаков одаренной натуры. Оно открывало возможность прославиться и придать блеск общественного удивления своему имени. Ведь обыватели, дельцы и филистеры не выходили к барьеру. Для этого нужен был героизм, свойственный творческим натурам. И опасная мода стала косить головы поэтов.
К этой печальной теме мне еще придется вернуться.
Неизвестно, к чему бы привели эти бесчисленные поединки, если бы 26 февраля официальный "Moniteur" не поместил бы письма самой герцогини € категорическим заявлением о том, что она тайно обвенчалась во время своего пребывания в Италии.
Взрыв негодования в легитимистских салонах, ирония и смех в орлеанских кругах. "Она прибыла во Францию требовать трона, ей пришлось просить фартук кормилицы",- острили политические противники. Но опытные карлисты решили действовать энергично: дипломаты и банкиры их партии заключили союз, чтоб "спасти честь герцогини".
И вот появляется на сцену мелкий политический авантюрист, некий граф Гектор Луккези-Палли, который всенародно подтверждает, что с лета 1832 года он тайно обвенчан с герцогиней Беррийской.
Этим объявленным браком регентша Франции спасала свою женскую честь, но утрачивала навсегда все права на французский престол. Ее историческая роль была сыграна до конца. Ей снова пришлось рожать в присутствии многочисленных свидетелей и затем подчиниться приказу Луи-Филиппа и навсегда удалиться за пределы Франции.
В июне 1833 года парусный корвет "Агата." доставил герцогиню с новорожденным младенцем в порт Палермо.
Так кончилась политическая жизнь Марии-Каролины-Фердинанды, принцессы обеих Сицилии.
Пылкие сторонники регентши Франции не могли служить графине Луккези-Пали. Поклявшись в непоколебимой верности Генриху V, они рассеялись по иностранным армиям и дворам.
IV
К этому времени Жорж уже был в Сульце. После несчастных и бессмысленных сражений под Шеном и Пенисьер он, как и большинство сторонников герцогини, обеспечив ей безопасность в Нанте, скрылся.
К осени он уже был на родине. Здесь он провел два года в бездеятельности, обреченный на плачевную праздность политического изгнания. Полный сил, способностей и энергии, он скакал по полям и стрелял в окрестных рощах, промежутках уныло слоняясь по тихим улицам и площадям старинного прирейнского городка с его зубчатыми башнями, крепостными стенами, готической ратушей и вековым капуцинским монастырем.
По временам он вел безотрадные беседы со своим отцом. Старик был глубоко потрясен падением Карла X, новым режимом журналистов в Париже и крупными ударами, нанесенными его родовому богатству революцией 1830 года.
Соседом д'Антесов по их эльзасскому поместью был герцог Баденский. Однажды Жорж встретился у него с принцем Луккским. Они вместе развлекались-охотились, объезжали лошадей, занимались фехтованием.
- Как жаль, что вы прозябаете в вашем глухом Сульце,- сказал однажды Жоржу его новый знакомый,- почему бы вам не пройти военной школы в Пруссии? Я в добрых отношениях с прусским королем, хотите я напишу ему о вас?
Предложение итальянского князя было обсуждено на семейном совете. Мой дядя Жозеф-Конрад, скорбевший о бездеятельной молодости своего одаренного красавца-сына, решился на разлуку и высказался за его отъезд. В то время французы, верные Бурбонам, удалялись в Голландию, Пруссию, Австрию или даже в Россию, где занимали подчас высокие посты в войсках или в администрации. Предания старой эмиграции еще не иссякли, и воспоминания о зарубежных успехах роялистов были свежи. Жорж д'Антес решился вступить на этот испытанный путь. Он имел знатных родственников в Берлине и даже в Петербурге. Преданность законной монархии обеспечивала ему благожелательный прием при обоих дворах. Он решил искать счастья в чужих краях.
Герцогиня Беррийская, не прекращавшая переписки со своими сторонниками, обещала д'Антесу просить своего низложенного тестя поддержать перед "коронованными братьями" интересы верного защитника старой династии.
И вот ранней осенью 1834 года, с письмом герцога Луккского в руках, д'Антес явился к сыну прусского короля.
- Вы, может быть, думаете,- сказал ему принц Вильгельм,- что отец мой может делать все, что ему вздумается. Наши военные регламенты суровы, и никто не вправе нарушать их. В прусскую армию вы можете вступить лишь нижним чином, т. е. унтер-офицером. Но не то в России. Мой зять, император Николай, полновластен, и даже военная дисциплина склоняется перед его самодержавной волей. Я не сомневаюсь, что он окажет милостивый прием роялисту, пострадавшему за верность трону. Я дам вам к нему письмо.
Д'Антесу пришлось подчиниться совету принца прусского. С некоторой тревогой он решил продолжать свои поиски счастья в далеком Петербурге.
А между тем, жизнь продолжала сплетать по пути его эпизоды и приключения, достойные фантазии Анны Редклиф.
В скверное время, в осеннюю распутицу, почти без средств, прижимая к сердцу письма своих знатных покровителей, д'Антес снова пустился в путь.
Шли непрерывные дожди, дули пронзительные северные ветры. Ветхий дилижанс заливало водой и продувало дорожным сквозняком. Избалованный солнечным Сульцем, Жорж захворал. В Любек он приехал совершенно больным. Не будучи в состоянии продолжать путешествие, он занял тесный номер в большой любекскей гостинице с позолоченной вывеской "Город Гамбург", где лихорадил и бредил совершенно один, без спутников и родных, почти без денег. Какое дурное предзнаменование! Не отказаться ли от дальнейшего следования в Петербург? Не вернуться ли в Берлин?
В это время, по пути из Гааги в Петербург, в любекскую гостиницу заехал один знатный путешественник.
То был королевский нидерландский посланник при русском дворе, один из последних отпрысков древнего голландского рода баронов фан-Геккернов де-Беверваард. Получивший французское образование, служивший в молодости при Наполеоне, а впоследствии даже принявший католичество, барон Луи-Борхард фан-Геккерн был большим поклонником Франции. Фамилия моего кузена, прочитанная им в списке постояльцев, оказалась ему знакомой и возбудила в его памяти довольно отчетливые фамильные предания. Знаток европейских родословных, он живо заинтересовался молодым и знатным французом, томившимся в заезжем трактире ганзеатического города. Он выразил пожелание познакомиться с ним.
С первых же бесед обнаружилась их общая принадлежность по женским линиям к старинным германским родам. В отдаленных сплетениях фамилий Нассау и Гацфельдов можно было найти совпадающие ветви, связывающие степенями свойства фан-Геккернов с младшими представителями баронской фамилии д'Антес. Во всяком случае, посланник принял в Жорже живейшее участие, задержал свое дальнейшее путешествие, пригласил врачей и с материнской нежностью выходил его. Кузен мой с чувством глубокой растроганности передавал мне, с какой самоотверженной заботливостью ухаживал за ним этот видный государственный деятель, блиставший при первом европейском дворе.
Как только Жорж оправился, посланник с любезностью светского человека и щедростью вельможи предложил ему продолжать путешествие вместе. Он настоял на том, чтобы его новый друг совершил переезд в каюте первого класса, и даже вызвался покрыть расходы по билету, стоившему добрую горсть голландских червонцев.
В средних числах октября они заняли каюту на пироскафе "Николай I" и через три дня прибыли в Кронштадт, уже связанные чувством самой тесной близости.
Барон Геккерн обещал Жоржу свою широкую поддержку при его вступлении в петербургский свет.
Между тем, письма знатных покровителей Жоржа были доставлены по назначению. Государь отдал распоряжение допустить сен-сирского юнкера, достойно сражавшегося за французского короля, к офицерскому экзамену при военной академии.
Таким образом, Жорж д'Антеc вступил в петербургскую жизнь под высоким покровительством Бурбонов и Гогенцоллернов, под крепкой защитой представителя нидерландского короля, при заочном благожелательстве императора Николая. Неудивительно, что он двинулся по пути успехов гигантскими шагами.
- И вот уже скоро два года,- закончил свой рассказ д'Антеc,- как я зачислен корнетом в кавалергардский полк, состоящий под шефством самой императрицы. Паж герцогини Беррийской был признан достойным вступить в телохранители ее величества. Я отличен за смотры и маневры высочайшим благоволением, принят ко двору, бываю в лучших домах Петербурга, обласкан товарищами и начальниками. Дела мои в блестящем состоянии. Ты застаешь меня накануне повышения в чине. Вспомни, что иностранцам в русской армии случалось достигать высоких степеней. Мне кажется, я на пути к ним. Кто знает, друг мой, быть может тебе суждено стать в будущем родственником российского фельдмаршала!..
V
Между тем, смеркалось. Мы отправились обедать в ресторан Дюмэ. Желая продолжать нашу интимную беседу, мы сели не за табль-д'отом, а в стороне, за отдельным столиком. Бутылка шампанского в белой салфетке сейчас же появилась на столе.
- Это обычай русских,- сообщил мне д'Антес.- Здесь без шампанского не садятся за стол. Я думаю, что в России потребляют больше этого вина, нежели Шампань его производит.
Ресторан наполнялся посетителями. За табль-д'отом усаживались представители сановного, военного и богатого Петербурга, ценившие тонкую кухню и кулинарное искусство нашего соотечественника. Д'Антес от времени до времени приподнимался и раскланивался. Это нисколько не мешало продолжению нашей беседы. Она даже приняла за бокалами играющего вина более задушевный характер.
Всегдашний повеса и вечный хохотун, кузен мой любил рассказывать о своих похождениях и победах. Я навел разговор на эту тему.
Жорж весело расхохотался и с горящими глазами стал посвящать меня в историю своих русских похождений.
- Петербург полон соблазнов,- с увлечением рассказывал он. - Северные морозы разжигают кровь и кружат голову. Здешние женщины ленивы и чувственны, как гаремные затворницы. Они капитулируют при первой осаде...
Я заметил, что, когда д'Антес говорит о женщинах, лицо его принимает хищное выражение. Ноздри слегка раздуваются, глаза вспыхивают жестоким огоньком, даже его прекрасно очерченный рот получает резкую и неприятную складку.
- Ты, как всегда, ни в чем не знаешь поражений,- заметил я.
Неожиданно лицо Жоржа омрачилось. С необычайной задумчивостью он посмотрел на меня, перевел затем свой взгляд на бокал и долго следил за легким ходом возносящихся искорок светлого напитка.
Наконец, отпив глоток, он произнес:
- Знаешь ли, Лоран, после сотни легких побед я, наконец, чувствую себя побежденным. Впервые в жизни я, как глупый мальчишка, бессилен подчинить себе обстоятельства и добиться торжества.
- Это действительно невероятно. Но кто же она?
Он ближе придвинул стул и, почти перегнувшись через скатерть, стал вполголоса говорить мне:
- Представь себе олимпийскую богиню в наряде знатной дамы наших дней. Она высока и изумительно стройна. Талия девически тонка и колеблет, как стебель, пышный и мощный торс великолепно расцветшей женщины. На нежной и хрупкой шее голова Юноны, но не властной и гордой, а кроткой и застенчивой. Этот контраст восхищает, преисполняет тебя состраданием и может свести с ума.
Он отпил от своего бокала и с горящими глазами продолжал:
- Описать эту торжествующую красоту невозможно. Представь себе лицо с овалом безупречной чистоты в раме из шелковисто-густых локонов, с огромными сияющими глазами, словно вбирающими в себя, как алмаз, все лучи, чтобы вернуть их с удесятеренной силой.
Д'Антес внезапно прервал свою речь. Он быстро поднялся, опустил руки и порывистым движением повернул свою слегка приподнятую голову к входной двери. Взгляд его приветливо и бдительно скользил по каким-то новым посетителям, проходившим по залу.
Я обернулся. Вдоль столов шагали двое военных. Сухой и высокий генерал, с характерным выражением немецкого командира на гладко выбритом бесстрастном лице, с коротко подстриженными усами, благосклонным, но сдержанным кивком ответил Жоржу. Это был командир кавалергардов, барон Георг фон-Грюнвальд. Спутник его, командующий гвардейским конным полком Бреверн, веселою улыбкою отвечал д'Антесу.
Командир конногвардейцев славился своим живым и общительным нравом.
Кто из нас мог подумать, что через год этот благодушный полковник вынесет смертный приговор беспечному поручику д'Антесу?..
- Но больше всего изумляет в ней,- продолжал свое признание д'Антес,- сочетание строгой красоты с наивным страдальческим выражением лба, глаз, светлой и чуть грустной улыбки. В этом классическом совершенстве черт есть нечто жалобное, почти детское. Эта ослепляющая женщина в полном расцвете своей молодости кажется бесстрастной, как ребенок, и чистой, как девственница. От нее веет холодом мраморной статуи. И это может окончательно лишить рассудка.
Д'Антес преобразился. В нем ничего не оставалось от обычной легкой шутливости и веселой разговорчивости. Он был действительно весь охвачен "великой и возвышенной страстью", как выразился впоследствии, в трагическую минуту смертельного расчета, один гениальный наблюдатель его романа.
- Кто же она? - невольно сорвался у меня вопрос.
Он снова задумался.
- Нет, я не назову ее имени. Когда-нибудь узнаешь.
- Ты поступаешь, как рыцарь. Я не буду расспрашивать тебя. Но - провозглашаю молчаливый тост, как в средние века.
Я поднял бокал. Жорж радостно взглянул на меня, чуть-чуть чокнулся и допил свое вино. И вот, мелодия страстного и безнадежного признания возникла внезапно из моих раздумий. Отбивая серебряным ножом такт по хрусталю бокала, я тихо-тихо, почти шопотом произнес мотив любовной каватины из модной тогда "Сомнамбулы":
L'alma mia nel tuo sembiante Vede appien, la tua scolpita...
- Что за изумительный слух! - раздалось за моей спиной. - Да познакомьте же меня с вашим приятелем. д'Антес.

За столом...
У нашего стола стоял человек не совсем обычной наружности: безукоризненный костюм, ослепительное жабо, высокие воротнички и слегка прикрытый обшлагом орден обнаруживали в нем важного сановника. Но, вопреки моде высшего круга, волосы его были довольно длинны и всклокочены, как у поэта.
- С величайшим удовольствием, ваше сиятельство,- отвечал д'Антес.
И, назвав меня незнакомцу, он не без труда произнес его сложную славянскую фамилию:
- Граф Михаил Виельгорский, гофмейстер "го величества, один из первых музыкантов Европы.
Граф присел к нашему столу.
- Вы из Парижа, дорогой, виконт? Ну расскажите же мне об опере и концертах. Ну что Гризи? Что Тальони? Фанни Эльслер? Что готовит Мейербер? Давно ли вас навещал Паганини?
В качестве постоянного посетителя Большой Оперы я мог легко рассказать петербургскому меломану о наших премьерах и знаменитостях. Он с жадностью выслушал мой рассказ о последних тримфах Руби ни и Лаблаша. Я сообщил ему о подготовке Большим театром новой оперы Мейербера - "Гугеноты".- Говорят, это сильнее "Роберта-Дьявола",- закончил я свою рецензию.
- Славу богу, и мы не отстаем от Европы,- сообщил мне петербургский меломан,- вы можете услышать у нас и "Возмущенье в Серале", и "Фенеллу".
- При первом случае почту за долг посетить петербургский балет.
Виельгорский, прощаясь, пригласил меня на выступление своего квартета.
- Вы услышите, правда, варварское исполнение гениальных европейских компонистов,- заметил он,- но все же приходите послушать наш скифский концерт.
VI
Д'Антес повез меня к себе знакомить со своим приемным отцом.
- Ты мне так описал твою красавицу, что берусь узнать ее без всяких указаний,- заметил я.
- Едва ли,- усомнился Жорж,- петербургское общество славится красивыми женщинами...
- Пари на дюжину шампанского...
- Идет.
- Условие: я угадываю до трех раз; если я ошибусь и на третьей красавице,- я проиграл пари.
- Принимаю.
Мы быстро неслись по Невскому. Мимо нас, летя навстречу, промелькнули в облаке снежной пыли маленькие сани, запряженные вороным рысаком. За дородным кучером пронеслась пасмурная фигура в тяжелой кирасирской каске с развевающейся по ветру серой пелериною форменной шинели с бобровым воротником.
- Император! - благоговейно шепнул д'Антес.
Я впервые увидел знаменитый выезд Николая в одноконку.
Сани быстро домчали нас. Геккерны жили при голландском посольстве на Невском проспекте. На дубовых дверях золотой лев сотрясал правою лапою меч, а левою вонзал связку стрел в лазурное поле герба. Две первые комнаты были отведены под канцелярию и архив, остальная, довольно просторная квартира почти сплошь представляла собою музей редкостей.
Голландский посланник был известным коллекционером. Еще подростком, по обычаям своей страны, он собирал тюльпаны и славился обладанием редчайших луковиц и драгоценнейших цветочных экземпляров. Юношей, служа во флоте, он любил скупать в чужестранных портах оружие, утварь или украшения необычайной формы. В родовом замке Беверваардов в комнате молодого барона накоплялись понемногу ятаганы, бумеранги и стрелы, пестрые блюда и кувшины, зеленовато-золотистые бокалы венецианского стекла, застежки, бусы и четки с константинопольских базаров.
Когда юный барон Луи уезжал в Стокгольм секретарем нидерландского посольства, парусное королевское судно увозило с собой тяжелые баулы, наполненные редкостными трофеями этого жадного собирателя. С тех пор коллекции фан-Геккерна не переставали расти и следовать за ним по местам его службы, пока, наконец, они не превратили его петербургскую квартиру в настоящую кунсткамеру.
Все это я узнал от Жоржа. Приехав в посольство, он проводил меня в кабинет своего отца и представил как близкого родственника и друга детства.
Барон Луи фан-Геккерн де-Беверваард, несмотря на свой малый рост, был пропорционально сложен и отличался своеобразной грацией. В его манере было много мягкой и медлительной вкрадчивости. Маленькие руки необыкновенной белизны и тщательной выхоленности были словно созданы для округлых и ласковых жестов. Несмотря на характерную бородку голландских моряков, словно растущую на шее из-под галстука, в его правильном лице было много женственного. Отчетливость некрупных черт, красивая очерченность рта, свободного от всякой растительности, тонкие брови, бледность щек - все это придавало его облику некоторую тепличную изнеженность. Только холодные глаза светились умом и волей. Мне казалось, что его маленькая голова с незначительным выступом над затылком придавала его гибкой фигуре какой-то змеиный извив.
Первая же беседа с бароном убедила меня в его остроумии и умении вести живой разговор. Он любил сопровождать свои образы комическими каламбурами, покрывая свои остроты несколько монотонным смехом. Большой знаток видных европейских фамилий, он представлял собою как бы живой Готский альманах.
С первых же слов он установил родство д'Аршиаков с графской и герцогской ветвью Сен-Симонов и поразил меня осведомленностью в старинных французских родословных.
- О, Франция - моя вторая родина,- заявил барон,- мы с вами и географически и духовно родственны. Ведь помните, еще Наполеон признал Голландию "наносом французских рек", а наш старый Амстердам - третьим городом своей империи. У него был вкус, не правда ли? Вы ведь можете об этом судить: говорят, вы побывали на моей родине.
Я рассказал Геккерну о моей прошлогодней поездке в Гаагу с особым поручением к его главе-министру Верстолку. Я восхищался природой и архитектурой его страны. Я говорил ему о моем восторге перед статуями готических ратуш и расписными витражами старых фламандских ратуш.
- Я покажу вам некоторые образцы пленившего вас искусства,- сказал мне Геккерн.
И он повел меня показывать свои коллекции.
На массивных шкафах резной работы были расставлены бронзовые фигуры, группы из севрского бисквита или слоновой кости, фарфоровые вазы и эмалевые табакерки. На густых восточных коврах было развешано оружие. Стены были покрыты застекленными эстампами и пастелями, над которыми висели большие полотна в золотых рамах.
В картинной галерее барона преобладали пейзажи его родины и портреты его соотечественников. Хорошо знакомые мне дюны и каналы, озера и лагуны, водяные и ветряные мельницы, сваи и шлюзы, высокие многоэтажные крыши с блестящими иглами и выгнутые мосты над недвижными струями Шельды выступали предо мной из бронзы и точеного дерева фигурных обрамлений.
Но еще замечательнее было портретное собрание барона Геккерна. Во второй комнате я увидел ряд мужских изображений, одиночных или групповых, погрудных или во весь рост, прославивших во всем свете старинных фламандских мастеров. Хирурги и зубные врачи, бургомистры и гильдейские старшины, органисты и скрипачи, придворные, воины и штатгальтеры Оранского дома выступали передо мной во всем разнообразии своих обликов, причесок и костюмов.
Я любовался умными лицами анатомов в черных шляпах с нависшими полями и горделивыми мановениями полководцев, гарцующих под лепными сводами триумфальных арок с маршальскими жезлами в протянутых руках. Из дымчатого сумрака портретных фонов выступали вельможи в охотничьих костюмах с большими гладкими собаками, прильнувшими к колену, или мальчики в белом шелку с попугаями на светлой замше перчаток. Барон называл мне имена неизвестных художников из Лейдена и Утрехта, из Амстердама и Гаарлема. И прелесть этих изображений, казалось, усиливалась от необычайного звучания чужестранных имен: Яна ван-Скоорля, Гаверкорна ван-Рийсевика или Иооса ван-Кресбеека.
Картинное собрание барона поразило меня. Какое разнообразие типов и характеров! Но, всматриваясь в эту обширную галлерею персонажей, я невольно обратил внимание на отсутствие среди них обычных фигур - Леды с лебедем, Клеопатры с нильской змейкой, богородиц и Магдалин, королев и куртизанок. Я сообщил мое наблюдение барону. Он слегка поморщился.

Картинное собрание барона поразило меня
- Что может быть прекраснее мужественной красоты? Какая превосходная строгость и четкость, какая гибкость мускулатуры и стремительность членов! Взгляните на этого Ахилла с челом, окованным каской, или на этого пажа в ломких отсветах лионского шелка. Ессе homo? Обнаженный, он кажется воином, готовым для боя. Все на своем месте, ничего лишнего. А все эти вздутые припухлости и рыхлые формы моделей Рубенса - к чему они? Вы скажете - для деторождения и кормления,- пожалуй. Но для красоты - никогда.
Он подошел к своему письменному столу и взял с него портрет своего приемного сына. Д'Антес был изображен на нем в белом мундире и сверкающей кирасе кавалергарда. Он поднес эту миниатюру к небольшому полотну ван-Вениуса, изображающему Иоанна-Крестителя.
- Какое сходство. И в обоих случаях какая смелая красота! Взгляните на эти плечи...
Я согласился с бароном. Старинному голландскому художнику пришла фантазия изобразить евангельского предтечу не в виде сурового аскета, а в образе жизнерадостного юноши. Казалось, Жорж д'Антес, совлекший с себя ослепительные доспехи кавалергарда, беспечно глядел на нас из коричневых тонов старого полотна, с легкой улыбкой воздевая воздушный тростниковый крест над грубой овечьей шкурой своей пастушеской одежды...
Впоследствии я узнал происхождение богатых коллекций барона Геккерна. Собирая материалы для моей книги о России, я наткнулся на пачку любопытных документов. То были счета торговых фирм, запросы таможенного ведомства и отношения департамента внешней торговли. Из этой служебной переписки непререкаемо явствовало, что полномочный и чрезвычайный посланник короля нидерландского вел довольно крупные коммерческие дела. Пользуясь в качестве аккредитованной дипломатической особы правом получать беспошлинно разные посылки из-за границы, Геккерн выписывал в огромном количестве всевозможные предметы роскоши, дорогие напитки и художественные редкости, доставлявшие ему крупные барыши. Несколько больших иностранных магазинов на Невском и первые столичные трактиры состояли тайными контрагентами барона, наживаясь на его беспошлинном товаре и обогащая самого оборотистого дипломата.
Из Амстердама, Лондона, Парижа, Гавра и Любека на Невский проспект, в нидерландское посольство, доставлялись многопудовые ящики с оружием и редкостями. Сюда текли огромные партии ликеров, шампанского, рейнвейна, парагвайского бальзама и киршвассера. Хрустальные, фарфоровые и серебряные вещи, цельные свертки материй для обивки экипажей и мебели, часы, табакерки и бронзовые шандалы направлялись через голландскую миссию в склады столичных купцов. Для художественных коллекций барона и для лавок петербургских антиквариев выписывались древние японские вазы, китайский фарфор, индийская бронза, картины в массивных рамах, редкая мебель. Из некоторых счетов было видно, что парижские парфюмеры, портные, перчаточники и обувные мастера доставляли Геккерну свои жилеты, шелковые чулки, фраки, туфли,. халаты, духи и помаду.
Но при всем благоволении к барону Геккерну самого вице-канцлера Российский империи таможенное ведомство становилось иногда втупик перед невообразимыми размерами грузооборота нидерландской миссии.
Я видел любопытное отношение департамента внешней торговли министерства финансов в департамент внутренних сношений министерства иностранных дел с тревожным запросом петербургской таможни. Директор растерянно сообщал подлежащему учреждению, что - "...на пароходе "Александра" привезен на имя г. нидерландского посланника барона Геккерна один ящик под знаком НВ Н. № 1 и что по досмотру сего ящика при доверенном от г. посланника оказались в нем: 99 кусков белого льняного полотна для скатертей и 137 штук салфеток таковых же, не обрубленных, новых, весом всего налицо 13 пуд. 30 фун., к привозу по действующему ныне тарифу запрещенных, кои оставлены в таможне впредь до разрешения".
Ведомство графа Нессельроде распорядилось выдать голландскому посланнику все запретное содержимое вскрытого ящика.
Таким образом, влиятельный представитель европейской державы, один из виднейших членов петербургского дипломатического корпуса, отпрыск знатной титулованной фамилии втихомолку занимался широкой контрабандой при благосклонном попустительстве российского вице-канцлера.
Золотей лев, сотрясавший мечом и стрелами на голубом поле герба; украшавшего дубовую дверь голландского посольства, служил, в сущности, вывеской тайной торговой организации, строившей свои балансы на крупнейшем государственном беззаконии.
Действия, за которые обыкновенный член петербургских купеческих гильдий мог быть наказан кнутом и сослан в Сибирь, доставляли барону Луи-Борхарду фан-Геккерну богатство, связи, влияние и все проистекающие отсюда блага общественных почестей и завидной известности.
VII
Мы вошли в комнату д'Антеса. Над диваном были развешаны по ковру пистолеты старинных и новейших систем с гладким деревом, перламутром или слоновой костью на тяжелых рукоятках. На иных из них золотом по черни змеилась подпись Ле-Пажа, оружейника короля. Над столом висел большой портрет молодой женщины с узкими глазами, вздернутым носом и полуоткрытым ртом. Я сразу узнал изображение герцогини Беррийской.
- А где же портрет Карла X? - спросил я, улыбаясь.
- Я не карлист. Я-ан-ри-кен-кист*,- раздельно произнес д'Антес.- Это нужно различать. Карл X отрекся! от престола во имя своего внука Генриха V. Я беспрекословно исполняю его волю: я верноподданный юного принца и слуга его матери, регентши Франции - Марии-Каролины.
* (Так называли себя сторонники Генриха V (Henri-Quint).)
- Вот мой король,- закончил он, указывая на скульптуру, украшавшую его камин.
Я подошел ближе. Это была конная статуэтка графа Шамбора, герцога Бордоского, которого молодве крыло легитимистов называло королем, Франции Генрихом V. У зеркала висела раскрашенная карикатура из парижского юмористического листка, изображающая остроконечную голову Луи-Филиппа в виде огромной улыбающейся груши.
- Это моя любимая мишень,- весело заявил Жорж.
И, сняв со стены особого типа хлыст-пистолет, он выпустил несколько зарядов в рисунок "Charivari", безошибочно насаживая пулю на пулю.
Геккерны убедили меня провести с ними вечер. Они ждали двух-трех друзей.
Вскоре приехали однополчане Жоржа: Трубецкой, Бетанкур и Полетика. Все это были видные кавалергарды. Ротмистр Адольф Бетанкур-и-Молина, по отцу испанец, по матери англичанин, был сыном известного инженерного генерала. Князь Александр Трубецкой, несмотря на свою молодость, уже был штаб-ротмистром. Это был тот самый Трубецкой, который вскоре прославился своим романом с знаменитой танцовщицей Тальони. Он разъезжал вслед за ней по всей Европе, появлялся в театрах Вены, Парижа и Лондона, заслужил гнев государя и чуть ли не был исключен из кавалергардов. В то время его страсть к балету еще не переходила обычных для петербургской молодежи границ.
Наконец полковник Полетика, самый старший в компании, мало походил на военного и держал себя скромнее и тише всех. Его называли "божьей коровкой". Это нисколько не решало ему весьма успешно увеличивать свое благосостояние. Передавали, что в польский поход 1831 года он умело завладевал не только вещами товарищей, но даже походными палатками. Главное его достоинство, как я узнал от д'Антеса, была молодая жена, кружившая головы всему кавалергардскому полку.
По обычаю русских военных, офицеры быстро приготовили особый горячий и крепкий напиток. В серебряную мису была поставлена сахарная голова, налит и зажжен ром. Кавалергарды черпали ковшиком пылающую влагу и разливали ее по стаканам, роняя в стекло огненные синие капли. Пока они готовили свое пылающее питье, Геккерн усадил меня в своем кабинете и стал беседовать со мной о Петербурге и дипломатическом корпусе.
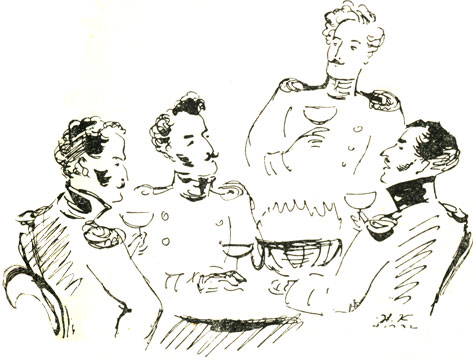
По обычаю русских военных, офицеры быстро приготовили особый горячий и крепкий напиток
- Ваше положение, дорогой виконт, как представителя революционной Франции при петербургском дворе не легко. Дипломаты, аккредитованные при здешнем дворе, принадлежат почти сплошь к враждебной вам школе. Сам русский вице-канцлер - верный и преданный слуга Меттерниха. Представители иностранных держав при русском дворе - почти все прошли меттерниховскую школу "остались ей верны. Я не исключаю и себя из этого числа.
Во время разговора он часто брал со своего письменного стола небольшое ручное зеркало в черепаховой оправе и пытливо рассматривал свое лицо в различных поворотах. Иногда он невольно переводил свои взгляды на миниатюрный портрет Жоржа, стоящий перед ним на его рабочем бюро. После небольшой паузы он задумчиво произнес:
- Поговорим о другом. Вам, как брату и другу Жоржа, я должен раскрыть свои заботы. Я хотел бы, чтобы вы мне помогли своим влиянием на него. Не скрою, я привязался к нему всем сердцем, и в моей одинокой жизни он неожиданно создал теплое ощущение семейственности. Я полюбил его, как мать, боготворящая своего взрослого сына и способная мучительно ревновать его к каждой любовнице. И в этом отношении ваш кузен доставляет мне немало горьких минут.
Я вспомнил исповедь д'Антеса.
- Его женолюбие и легкомыслие,- продолжал Геккерн,- могут вызвать тяжелые неприятности для нас обоих. Скрепя сердце, я простил бы ему каких-нибудь актрис и танцовщиц, эти минутные и незаметные интрижки - неизбежное зло молодости. Но у него стремление к прочным связям с женщинами высшего света, и даже придворного круга, а это чревато крупными и непоправимыми осложнениями. Он не думает о тех скандалах, которые и отдаленно не должны касаться нашего имени.
Я поинтересовался узнать, имеет ли барон в виду какой-нибудь определенный случай. Он с сокрушением кивнул головой.
- Представьте себе, что он вздумал увлечься одной светской женщиной, весьма заметной B обществе и при дворе. Должен сознаться, что нельзя не одобрить его вкус,- это, вероятно, первая красавица в Европе,- но нельзя же жертвовать женщине своим именем, своей карьерой, быть может всем своим будущим. Все это бесконечно огорчает меня, и я хочу просить вас, как ближайшего друга моего сына, удержать его от этого безрассудства и вернуть его снова к нашей счастливой и замкнутой семейной жизни вдвоем. Я верю в силу вашего влияния на него.
После всего, что я слышал о Жорже, я не очень полагался на свое воздействие. Но я пообещал барону поговорить с моим кузеном.
Посланник был явно взволнован нашей беседой. Он взял со стола флакон богемского стекла и, смочив крепкими духами кончики пальцев, прикасался ими к вискам. Он жадно вдыхал испарения граненого хрусталя, словно стремясь слегка одурманить себя смешанным запахом тубероз и нарциссов.
Из соседней комнаты раздался шум голосов. Жженка была готова, меня приглашали отведать питье.
Свечи были погашены. Ваза пылала голубым, огнем, отсвечиваясь в блестящих украшениях, мундиров.
Кавалергарды за пылающими стаканами вели товарищескую беседу. Меня поразил узкий круг их тем и незначительность их интересов. Полковая жизнь, лошади, обмундирование, карточная игра, в лучшем случае театр, как места встречи с великосветскими красавицами, или неисчерпаемый питомник одалисок из состава, кордебалета - вот что питало их беседы. Они жаловались на невыносимую требовательность к военным брата царя - великого князя Михаила Павловича, жестокого фронтовика, напоминавшего в припадках гнева своего безумного отца. Бетанкур рассказывал, как недавно великий князь перед фронтом войск обругал последними словами командира дивизии, подавшего в тот же день в отставку. Театрал Трубецкой восхищался постановкой нового балета "Возмущенье в Серале", в котором были бесподобны Круазет и младшая Тальони.
- Представьте, балетмейстер завербовал целую армию юных мавританок, вооруженную огнестрельными взглядами, конгревовыми улыбками, белым оружием плеч и рук...
Барон Геккерн входил к нам от времени до времени, внося с собой смешанный запах тубероз и нарциссов и оживляя беседу острыми замечаниями. К концу вечера он подсел к столу с маленьким томиком в руках.
- Какое прекрасное место в мемуарах Иона Хиосского, друга Софокла!
И он стал читать:
"Я встретился с поэтом Софоклом в Хиосе в то время, когда он в качестве стратега плыл в Лесбос. Был он за чашей вина любителем шуток и увлекательным собеседником. Во время вечернего пиршества он обратился к отроку виночерпию и сказал ему: "Хочешь, чтоб я пил с удовольствием?" - "Конечно",- ответил мальчик. "Тогда подноси мне чашу медленно и медленно же уноси ее". Мальчик еще сильнее покраснел, и Софокл заметил своему соседу: "Как хорошо сказал Фриних:
На ярко-пурпурных ланитах пылает огонь вожделенья…
Мальчик хотел мизинцем удалить перышко с поверхности влаги, Софокл же сказал ему: "Лучше сдунь его, чтобы не замочить пальца". А когда мальчик наклонился к чаше, он приблизил чашу к своим устам, чтоб этим самым приблизить его голову к своей. Когда они были совсем близко, он обнял его рукой и поцеловал. Тут все со смехом стали рукоплескать, громко выражая свое удовольствие, что он так ловко залучил мальчика.- Я учусь стратегическому искусству, друзья,- ответил Софокл,- ведь Перикл говорит про меня, что я стихи писать умею, начальствовать войском - нет. Но кажется эта стратагема вышла удачной..."
Место вызвало всеобщее одобрение. Жорж, как бы в ответ на прочитанный отрывок, поднес широкий бокал с горячим ромом барону, который вслед за ним отпил глоток и влажными от напитка губами прикоснулся влюбленно к щеке. д'Антеса.
VIII
В воскресенье 29 декабря чрезвычайный и полномочный посол его величества короля французов барон де-Барант был принят государем императором и имел счастье поднести Е. И. В. свои верительные грамоты.
IX
Передо мной копии дипломатических депеш: Баранта из Петербурга в Париж к герцогу Брольи. Приведу из них некоторые отрывки, сообщающие ряд сведений о первой поре нашего пребывания в русской столице.
Королевское посольство Франции в Петербурге 31 декабря 1835 г. Председателю Совета Министров Герцогу Брольи от барона де-Баранта.
На 29 декабря мне была назначена аудиенция у императора для вручения верительных грамот.
Я предполагал произнести при этом несколько, если не торжественных, то, по крайней мере, официальных слов, но царь принял меня в своем кабинете один-на-один. Лишь взошел я, как увидел себя возле него, и тотчас же он заговорил со мной в тоне весьма стремительной беседы. Его напористая речь не дала мне возможности сказать то, к чему я готовился.
Разговор постоянно велся такой, какой он желал. В его речах господствует стремленье рассеять "ложное мнение" о русском правительстве. Он часто распространялся о своем миролюбии, но, впрочем, довольно холодно отозвался о покушении Фиески. Желание во что бы то ни стало понравиться сильно заметно в нем. Так, например, во время аудиенции он часто брал мою руку и с чувством ее пожимал. Он заявил, что приедет к моей жене, и выказал живой интерес по поводу легкой простуды, схваченной ею в пути. Этому любезничанию не следует придавать особенного значения.
Мое первое знакомство с императором Николаем вполне подтвердило то, что мне не раз приходилось слышать о нем: это несомненно очень умелый актер. Недаром русский царь большой театрал и тратит огромные средства на содержание своих трупп. Говорят, в молодости он сам охотно исполнял роли в комедиях, операх и балетах. Бдительно следя за успехами русской сцены, он учится у знаменитого трагика Каратыгина тонким изменениям мимики, движений и голосовых интонаций, как Наполеон в свое время учился у Тальма носить императорскую мантию и восходить на тронные ступени. Его странные рукопожатия во время беседы со мною, его елейные речи о миролюбии и счастье народов, при ежедневных смотрах войск и подготовляющихся экспедициях на Кавказ и в Турцию; его манера поднимать плечи вверх и воздевать глаза к небу,- все это непререкаемо обнаруживает его актерскую природу, которая особенно сказывается в сношениях с иностранными дипломатами. Мы должны постоянно помнить и иметь в виду, что с нами ведется тонкая и рассчитанная игра, за эффектными приемами которой нам надлежит зорко рассматривать подлинный облик вещей, намерений и действий. К этому и будут направлены по мере сил и возможностей все мои старания...
С.-Петербург, 10 января 1836 года.
Вчера я видел государя на одном празднестве; он довольно долго беседовал со мной, но исключительно о картинах Эрмитажа, которые я осматривал поутру.
Картинное собрание государя - предмет его особенной гордости. Император Николай считает себя знатоком искусств и безошибочным ценителем живописцев. Он собственноручно разбирает кладовые Эрмитажа и по своей военной привычке категорически определяет школы, эпохи или авторов. Хранители музея, видные профессора живописи и археологи пробуют иногда со всей почтительной робостью восстановить историческую истину. Но царь не допускает возражений: итальянец, признанный им почему-либо фламандцем, отправляется на долгие годы в отдел нидерландского искусства и соответственно числится в списках галерей.
Это еще далеко не худшее, что допускает в области художественных сокровищ деспотизм царя. Он беспощадно истребляет все, что может напомнить ему нелюбимых людей или неприятные исторические эпизоды.
Недавно он осматривал собрание скульптур Гудона, сохранившееся в Эрмитаже. Подойдя решительным шагом к собранным статуям, он подверг их быстрому осмотру.
Перед ним, высоко подняв голову и бестрепетно устремляя вперед свой пытливый взгляд, Бюффон в завитом парике слегка приоткрывал рот, словно собираясь произносить речь о минералах, птицах или могучей власти человеческого слова.
На тонкой колонке высился бюст Марии-Антуанетты. Окутанная в широкую мантию с лепными лилиями по металлу ткани, небрежно роняя с плеча тяжелые складки горностая, с туго затянутыми у висков волосами, в высокой прическе с розами и ниспадающим мягким локоном у горла, она вздымала на длинной и гибкой шее свою узенькую голову с выпуклыми глазами и переломленным горбинкою носом. Кажется, наш славный ваятель вложил в эту статую всю парадность своего резца.
И, наконец, в просторной робе, с перевязью на мягких волосах, спокойно опустив свои сухие пальцы на подлокотни широких кресел, по ободу которых латынь художнических мастерских начертала "Goudon fecit 1781", с высоты своего постамента презрительно, издевательски и невозмутимо смотрел на императора Николая, насквозь пронзая его своим мраморным взором, король Вольтер.
Царь решил померяться с философом стойкостью своего зрения. Он остановился и долго всматривался в смеющиеся морщины, в светлый лоб и дерзостный, как обнаженный кинжал, взгляд мыслителя.
О чем думал этот запоздалый созерцатель неразгаданной улыбки? О переписке ли своей бабки с этим неутомимым корреспондентом всех европейских знаменитостей, об истории ли Петра, написанной этой цепкой рукою, или, может быть, о судьбе стоящей рядом Марии-Антуанетты, склонившей некогда по воле вольтерианцев свою хрупкую шею под топор 1793 года?
Но только царь неожиданно вздрогнул, быстро отвел свои неподвижные глаза от саркастической маски писателя и, отвернувшись, отдал сдавленным голосом приказ: - Истребить эту обезьяну! Кто-то из вельмож догадался отправить этот шедевр портретной скульптуры в подвалы дальнего дворца.
Не вынося напоминаний о бесчисленных любимцах Екатерины, император изгнал из своих галерей все портреты ее знаменитых фаворитов, хотя бы и принадлежавшие кистям славнейших мастеров.
Но беспощаднее всего поступил владелец Эрмитажа с произведениями польского искусства.
В последние два-три года в Петербург в большом количестве привозятся драгоценные коллекции, секвестрованные в Варшаве, Гродно, в поместьях и дворцах польской знати. Беспощадный в своей мстительной ненависти к Польше, государь предает сожжению все, что относит к национальному искусству своих поверженных врагов. Портреты нескольких поколений Потоцких, Замойских и Сапег, кисти Виже-Лебрен или Лампи, складываются в костры и безжалостно уничтожаются. Я видел любопытный рапорт одного из эрмитажных реставраторов, сообщающего по начальству, что "портреты, картины, фигуры и прочие вещи, привезенные из Варшавы в 37 ящиках, по высочайшему повелению истреблены и сожжены, за исключением одного портрета императора Александра I". Таким образом, реставраторов здесь употребляют на разрушение художественных сокровищ, а сам великодержавный меценат являет в своих приказах по художественному ведомству примеры неслыханного вандализма.
1 февраля 1836 года.
...Любопытно наблюдать, до какой степени Россия осталась чуждою всей эпохе реставрации Бурбонов. Лавки и гостиные переполнены портретами Наполеона, гравюрами его сражений, изображениями его маршалов. Поклонение его гению здесь еще более в ходу, чем у нас; начиная с императора до самого простого офицера, никто не говорит о нем без удивления.
Это, к сожалению, не определяет отношения правительства к современной Франции. Пораженный июльской революцией, как неслыханным оскорблением королевской власти, император получил из Парижа в эпоху польского восстания новую глубокую рану, которая год от году растравлялась статьями "Journal de Debats" и прениями камер.
Свою ненависть к Франции царь не всегда считает нужным скрывать. Когда обсуждался недавно вопрос о проведении железных дорог в России по проекту австрийского инженера Герстнера, Николай заявил:
- Если для работ потребуются знающие и опытные иностранцы, пусть Герстнер их выписывает, но чтоб отнюдь не было между ними ни одного французского подданного! Этих господ мне не нужно.
Между тем, петербургское общество сохраняет свои старинные симпатии к Франции. Мне приходилось не раз удивляться изумительному распространению парижских литературных новинок в русском обществе. Не удивляешься, встречая всюду последние книги Гюго или Бальзака, но менее известные в Европе Жюль Жанен, Альфонс Карр, Сент-Бев и Стендаль находят также своих читателей. Сам император, поощряя запретительные меры Уварова против французской литературы, говорят, зачитывается романами Поль де-Кока. Меня уверяли, что он так восхищен этим изобразителем гризеток, что Пален из Парижа доставляет ему оттиски новых произведений этого писателя еще до появления их в печати.
Таким образом, ненависть царя к Франции нисколько не распространяется на создания ее занимательной литературы.
Но в остальном он неумолим. Одно очень осведомленное лицо уверяло меня сегодня, что у Николая есть своя навязчивая идея - войти еще раз в Париж, во главе русских войск и открыть новую реставрацию Бурбонов.
X
- Надевайте ваш фрак, д'Аршиак, я познакомлю вас сегодня с моим старинным другом,- сказал мне вскоре после нашего приезда Барант.
- Кто же это, барон? - полюбопытствовал я, изъявляя, впрочем, полную готовность сопровождать его куда угодно.
- Видите ли, тридцать лет тому назад я был послан Наполеоном в Испанию. И вот в загсродном королевском дворце Ильдефонсе я познакомился с русским полномочным министром при испанском дворе, молодым бароном Григорием Строгановым. К нему-то я и хочу повести вас. В его зале сегодня концерт знаменитого петербургского квартета. Мы, вероятно, встретимся там с вице-канцлером Нессельроде.
Я попросил посла рассказать мне подробнее о своем мадридском приятеле.
- В то время это был неотразимый сердцеед. Его любовные победы сплетали вокруг его имени легенду о возрожденном Дон-Жуане. Сам лорд Байрон увековечил его имя и его образ непобедимого обольстителя в своей знаменитой поэме. Вы помните, может быть, строфу "Дон-Жуана", в которой донна Джулия в доказательство своей беспримерной верности заявляет своему ревнивому мужу, что "даже граф Строганов не мог 'ее прельстить:
The Count Stroganoff I put in pain...
Жена португальского посланника в Мадриде Джулия да-Эгга бросила мужа, семью и блистательное положение в Испании, чтоб не разлучаться с петербургским посланником. Она последовала за ним в Россию, несмотря на то, что Строганов был женат и даже имел нескольких детей. Долгие годы пришлось ждать лиссабонской посланнице, чтоб ее возлюбленный получил возможность сочетаться с ней законными узами. За это время она родила ему дочь И далию, ставшую теперь женою полковника Полетики.
- Я, кажется, познакомился с ним у д'Антеса,- припомнил я.
- Очень возможно. Они ведь сослуживцы по кавалергардскому полку. Идалия Полетика - одна из модных женщин Петербурга.
Я узнал от Баранта, что этот престарелый дон-жуан принадлежит к роду знаменитых русских солепромышленников, завоевавших Сибирь и финансировавших московских правителей в годины смут. За эти заслуги перед государством Строгановы подлежали только личному царскому суду, имели право строить города и крепости, лить пушки и пользоваться особым законодательством в своих безграничных вотчинах. Один из последних отпрысков этой фамилии представлял Российскую империю при дворах Швеции, Испании и Турции.
С любопытством вступал я в гостиную этого байроновского героя, потомка именитых купцов, посланника при трех державах и друга российского вице-канцлера.
Я увидал на фоне белоснежных пилястров и зеркальных стен исторические лица петербургских администраторов.
О мой предок Сен-Симон! О великий портретист царедворцев и воинов Людовика XIV! Вручи мне свою кисть и одари меня своим искусством запечатлевать в слове жирные маски вельмож и худощавые профили полководцев.
Под знаком твоим хочу открыть я свою галерею.
Портрет первый.
Дряхлеющий дон-жуан. Спинной хребет истощен и, надломившись, клонит поседелую голову, изможденную усердным служением Киприде. Глаза слепнут и слезятся. Пенистый галстук струится своими кружевами по черному обшлагу бархатного сюртука, но дрожащая рука цепко хватается за набалдашник трости, и неуверенно движутся по коврам и паркетам хилые ноги подагрика, некогда так легко и быстро летевшие на бесчисленные свидания под листву мадридского Ретино или под навесы галатских кофеен.
Женщины перестали привлекать его, но у него осталась еще одна идея, одна мания, один кумир. Честь! Родовая честь! Рыцарская честь! Кастильная честь... Во имя этого призрака он, обманувший стольких женщин и столько государств, принесет родного сына на заклание и обрушит проклятья на голову дочери. Зато он и считается верховным жрецом российской аристократии, ее Нестором и патриархом, первым судьей всех карточных и альковных столкновений, глубочайшим знатоком всех правил дворянской чести.
Таков член государственного совета, бывший посланник в Стокгольме, Мадриде и Константинополе, недавний кандидат в министры иностранных дел, прежде барон, а теперь граф Григорий Строганов.
Портрет второй (парный к предыдущему). Пятидесятилетняя женщина с лицом совершенно увядшим, но с открытой шеей и в модной бальной прическе. Вся в драгоценностях, одета необычайно моложаво; любит яркие кричащие тона. Превосходно танцует качучу, несмотря на морщины и дряблость всей мускулатуры. Это мадридская знаменитость, донна Джулия да-Эгга, дочь португальца Педро д'Альмейда-Ойенгаузен, ныне же петербургская матрона Юлия Петровна Строганова. Она легко приняла и носила с полной беспечностью фамилию российских солепромышленников, заменившую ей знатные наименования португальских грандов и испанских гидальго.
Старшая ее дочь была крещена именем одной из католических святых, влиятельных в Испании. Ее звали Идалия-Мария.
Это третий портрет моего раута, а по значению его оригинала для дальнейшего хода моей повести, он выступает на передний план.
Идалия Полетика принадлежит к типу тех живых, подвижных и разговорчивых женщин, которым свойственны обычно рискованные похождения и смелые светские интриги. Южный темперамент превращает их жизнь в богатую эротическую эпопею, а личные столкновения заставляют их сплетать сложные и таинственные комбинации, в которых находят себе выход их честолюбие, вражда, ненависть, а подчас и жестокая мстительность. К такому типу женщин принадлежали Катерина Медичи, Елизавета Английская и Марина Мнишек. Ближе к нам я мог бы назвать герцогиню Беррийскую.
Но побочная дочь графа Строганова не имела широкой арены государственной деятельности для развития своих тонких политических способностей. Ей пришлось довольствоваться тесным кругом великосветского Петербурга и кавалергардского полка, где, несмотря на свое плоское лицо и бесцветные глаза, она одерживала бесчисленные победы или же искусно заплетала тайные нити своих домашних заговоров. Сам командир кавалергардов Грюнвальд не ушел из ее сетей. Она славилась острым умом, бойкой речью и злым языком.
У Строгановых уже были в сборе их друзья - Нессельроде, Геккерн с д'Антесом, прусский посол фон-Либерман. По привычке всей своей жизни Строганов вращался в среде дипломатов и министров.
В ожидании концерта обсуждалась последняя злоба дня. Только что знаменитый поэт Пушкине напечатал в одном московском обозрении уничтожающий памфлет на министра народного просвещения Уварова. Темой послужила нашумевшая история с опечатанием шереметевского имущества.
Оказывается, недавно опасно заболел один из богатейших русских людей, молодой граф Шереметев, дальний родственник Уварова. Министр" поторопился распорядиться об охране наследственного имущества умирающего миллионера. Эта беззастенчивая поспешность вызвала осуждение даже в кругу петербургской знати. Когда в комитете министров Уваров на чей-то вопрос отвечал, что у Шереметева "скарлатинозная лихорадка", обер-камергер Литта своим зычным голосом бросил ему в лицо: "А у вас лихорадка стяжания"... Тот побледнел и промолчал. Дело приняло вскоре совершенно скандальный оборот. Шереметев выздоровел и спокойно снял меры охраны со своего имущества.
Поэт нашел здесь благодарный материал для: политической сатиры. Он написал ее в латинском вкусе, в виде оды на выздоровление знаменитого римского богача - Лукулла... Баранг попросил Строганова перевести ему этот обличительный гимн.
Мы действительно услышали убийственный памфлет. Поэт беспощадно заклеймил циничного корыстолюбца, сравнив его с вороном, падким к мертвечине (в стихотворение искусно введено меткое слово камергера Литты "о лихорадке стяжания"), В монологе скупца, опечатывающего кассы умирающего богача, есть несколько уничтожающих стихов о жизненных привычках Уварова.
Ода, как и автор ее, стали предметом всеобщего обсуждения, и мы узнали много любопытного о состоянии русской журналистики, о цензурных правилах и, наконец, о личности знаменитого русского поэта.
- Пушкин - младший чиновник министерства иностранных дел,- сообщил нам Нессельроде,- и, сознаюсь, пятно на персонале нашей коллегии. Он вступил в нее лет двадцать тому назад в чине коллежского секретаря и с тех пор не получил ни единой награды. А между тем его сотоварищи по лицею успели достигнуть высоких постов: Горчаков, например, первый секретарь в Вене, или барон Корф, исправляющий обязанности статс-секретаря. Способные и добропорядочные чиновники.
- Почему же Пушкин так отстал от них? - поинтересовался Барант.
- Якобинец,- кратко и выразительно отвечал министр, широко раскрыв глаза за толстыми круглыми стеклами.- Опаснейший вольтерьянец. Достаточно сказать, что его учителем в лицее был родной брат Марата.
Министр произнес это имя шопотом непреодолимого отвращения. Жена его изобразила на своем лице испуганный гнев.
- Он не успел оставить школьную скамью,- продолжал вице-канцлер,- как проявил себя с самой предосудительной стороны. Он позволил себе высмеивать возмутительными стихами действия верховной власти.
Снова гнев и испуг на лицах супругов Нессельроде.
- Когда же кожевенник Лувель заколол герцога Беррийского, Пушкин осмелился показывать в театре портрет убийцы с надписью "урок царям".
Долгая пауза ужаса.
- Но урок был дан опасному вольнодумцу: покойный император решил сослать его в Соловки или в Сибирь. Только заступничеству влиятельных друзей он обязан служебным назначением на юг. Мой коллега по управлению иностранными делами Каподистрия послал новому начальству Пушкина обстоятельную бумагу, в которой с чрезмерной, на мой взгляд, мягкостью характеризовал этого ярого вольтерьянца. Как только я вступил в единоличное управление коллегией, я немедленно же исключил Пушкина за распутство.
Ровную речь министра прорезала жесткая нотка властности.
- И что же? Правительству вскоре стало известно, что только ссылка помешала ему выйти на Сенатскую площадь в позорный день 14 декабря, когда кучка ничтожнейших проходимцев решилась колебать судьбы русского трона.
На лицах вице-канцлерской четы непостижимое смешение чувств: возмущение проходимцами и благоговение к трону.
- Только безмерное великодушие нашего императора вместе с мыслью Бенкендорфа о том, что народное имя Пушкина следует привлечь на свою сторону, отнюдь не бросая его в стан врагов правительства, кое-как прикрепили этого неугомонного рифмача к достойному существованию. Милости царя к нему безграничны, но он чудовищно неблагодарен и, конечно, не в состоянии изменить своей бунтарской природы. Это памфлетист по призванию - он никогда не успокоится, он всегда будет изощрять свое сомнительное остроумие на пасквилях против почтенных государственных деятелей.
Я следил за Нессельроде во время его речи. Он говорит медленно, методически, закругленно, словно читает доклад в комитете министров. Внешность вице-канцлера совершенно не соответствует его высокому званию, выдающемуся положению в правительстве и громкому европейскому имени. Это маленький человечек с птичьей головой и крохотными лапками.
У него крупный крючковатый нос, весьма напоминающий клюв, большие круглые очки с толстыми стеклами и широкое лицо. Все это придает ему заметное сходство с филином или совою. Только чувственные губы выдают его пристрастие к жизненным наслаждениям и тонкой гастрономии.
Ростом и лицом русский вице-канцлер сильно напоминает Тьера. Это такой же "карманный министр" или "сладострастный гном", как острили сен-жерменские аристократы над главным сподвижником Луи-Филиппа.
Но еще выразительнее фигура вице-канцлерши. Это матрона лет пятидесяти, с телосложением солдата и вспухшим лицом, преисполненным неодолимой надменности. Щеки ее, отвисая, оттягивают уголки рта, что придает ей вместе с выпуклыми глазами явное лягушечье выражение. Она пользуется неограниченным авторитетом в петербургском обществе, при дворе и в самой императорской семье. Это в значительной степени вызвано ее непримиримой ненавистью ко всякому либерализму. Благодаря ее личным связям и положению мужа, она является живым центром русской реакции и как бы представляет в Петербурге европейскую контрреволюцию.
Все это сообщает ей непомерное самомнение и презрительную надменность к окружающим. Я узнал впоследствии, что среди русской придворной знати, чрезвычайно падкой на деньги, графиня Нессельроде выделялась необычайным любостяжанием. Известное корыстолюбие Уваровых и Чернышевых бледнело перед алчностью этой придворной дамы, прослывшей в Петербурге страшнейшей взяточницей. Не даром была она дочерью известного министра финансов Гурьева, которого Пушкин назвал в одной эпиграмме грабителем.
К беседе о Пушкине графиня не осталась равнодушной.
- Меня всегда изумляет,- изрекла она высокомерно и непререкаемо,- почему этот опаснейший бунтовщик, этот скверный, развратный и злой человек, которому не место в Петербурге, состоит еще при дворе великодушнейшего из монархов.
- Поэтам разрешается быть вольтерьянцами,- тонко заметил Барант.
- Если он вольтерьянец, то с ним и надлежит поступить, как с Вольтером, которого герцог Щабо де-Роган велел избить палками. Удивляюсь, как эту меру еще не догадались применить к Пушкину.
Иностранные дипломаты - Геккерн и фон-Либерман - не принимали участия в разговоре о Пушкине. Я заметил, что они осторожно не вступали в обсуждение этой деликатной темы, впрочем, внимательно слушая говоривших. Когда же разговор принял более острый характер, они сели в стороне и стали беседовать на свою любимую тему - о владетельных княжеских домах и знатных родах Европы. Прусский посол обстоятельно излагал различие между линией Гогенцоллернов-Зигмарингенов и Гогенцоллернов-Гехингенов. Геккерн в ответ с любезной обстоятельностью устанавливал разные направления генеалогических ветвей Роганов-Рошфоров и Роганов-Шабо.
Старая Нессельроде между тем продолжала свою политическую речь:
- Государь и Бенкендорф должны бдительно следить за этим поджигателем. При первой же возможности он покажет свои когти. Это злейший враг монархического принципа и старой европейской аристократии. Он готов был бы всех нас вздернуть на фонари...
- Подождите, графиня,- с необычайной живостью вставила Идалия Полетика,- вы увидите, что он сам сорвется прежде, чем сумеет кого-нибудь утопить...
Глаза ее вспыхнули недобрым огоньком. "Видно поэт задевает не только государственных сановников", подумалось мне.
Когда нас пригласили в концерт, из угла гостиной до меня еще доносились звонкие созвучия фамилий Эстергази де-Галанта, Колонна ди-Шарра и Клари-унд-Альдринген. Это послы Нидерландов и Пруссии продолжали состязаться в своихпознаниях европейских родословных.
XI
Мы переходим в концертный зал.
На высокой эстраде несколько пультов. Груды нот и гнутое дерево струнных инструментов. Огромное флюгель-фортепьяно с высоко поднятой лаковой крышкой. Меж кол OF. н два портрета: Бах и Глюк. Четыре музыканта исполняют квартет Моцарта.
Это знаменитый в Петербурге ансамбль Виельгорского.
Над клавишами рояля я узнаю меломана, представленного мне в ресторане Дюмэ. Он увлечен исполнением своего аллегро и с замечательной быстротой и легкостью носится пальцами по слоновой кости инструмента.
Буря заключительных аккордов. Рукоплескания, поклоны. Виельгорский приветливо выслушивает мои похвалы.
- Я учился в Париже,- отвечает он мне.- Ваш знаменитый Керубини приобщил меня, к тайнам контрапункта. Я познакомился впоследствии в Вене с величайшим из симфонистов мира - Бетховеном, но я не изменил моей французской школе.
Виельгорский объездил всю Европу и говорит на всех языках. Самые знаменитые из иностранных композиторов, певцов и пианистов с ним лично знакомы. Он вводит их обычно в столичный круг. Дом его считается в Петербурге академией музыкального вкуса, откуда расходятся по всей России творения модных немецких мастеров: Герца, Мошелеса, Маурера, Фильда и Калькбреннера.
- Вы услышите сейчас французскую музыку - увертюру "Фра-Диаволо",- сообщает мнедальнейшую программу вечера петербургский меценат.
На эстраду всходит его младший брат - виолончелист Матвей Виельгорский. Он пробует смычком свой знаменитый Страдивариус. Стареющий и убежденный холостяк, он шутя называет любимый инструмент своею женою.
Начинается соло на виолончели. Я занимаю место рядом с д'Антесом. Искрометная фантазия Обера сменяет строгую гармонию германского композитора.
Под звуки "Фра-Диаволо" в концертный зал входит незнакомка в сопровождении советника австрийского посольства.
Чистота славянского облика заметно утончена, в ней типом знатной европейской женщины. Огромными сияющими глазами следит она за музыкантом, видимо, совершенно зачарованная блестящим каскадом звуков, сыплющихся из-под его смычка. Алмазная фероньера чуть-чуть колеблется над ее тонкими, слегка приподнятыми бровями, придающими всему ее облику характер наивной удивленности. Я долго всматриваюсь в это лицо, источающее лучи непередаваемого очарования. И чем дольше я смотрю на него, тем явственнее узнаю женщину, нарисованную мне недавно д'Антесом в его страстном признании за бокалом шампанского у Дюмэ. Я, наконец, наклоняюсь к нему.
- Делаю первый ход: я узнал твою даму. Д'Антес с удивлением взглядывает на меня.
- Ты был так красноречив,- продолжаю я,- что по твоему портрету я без труда узнаю оригинал.
Движеньем головы и глаз я указываю на вошедшую незнакомку. Жорж весело смеется.
- Я, кажется, выиграю пари,- заявляет он.- Нет, верь мне, ты решительно ошибся. Это только моя добрая знакомая, графиня Долли Фикельмон, жена австрийского посла. Ты, конечно, будешь в числе обычных посетителей ее раутов. Я тебя сейчас представлю ей.
И пока Матвей Виельгорский доигрывает свои искрометные вариации, д'Антеc продолжает тихо говорить мне:

Матвей Виельгорский доигрывает свои искрометные вариации
- В одном ты не ошибся. Это, конечно, одна из первых петербургских красавиц. Она кружила голову императору Александру и всем европейским монархам. Когда муж ее был посланником при короле неаполитанском, ее имя даже вошло в знаменитую итальянскую поговорку: Vedere Napoli, la Fiquelmont e morire! В Петербурге она служит одним из украшений придворных балов. И все же она решительно бледнеет и гаснет при появлении другой...
В это время смычок виртуоза оборвал на высшем подъеме бешеного темпа последние звуки финала. Мы прошли вдоль кресел, и д'Антес представил меня жене австрийского посла.
Разговор ее приятен и жив. Она любит Париж, следит за французской литературой, знакома лично со всеми европейскими знаменитостями.
- Как жаль, что концерт помешает мне подробно расспросить вас о семье графа Апонии. Но не заедете ли вы ко мне, виконт, пораньше в четверг, когда еще не все соберутся на раут? Мы спокойно побеседуем с вами о наших общих друзьях.
Я принимаю приглашение. С семьей австрийского посла в Париже я был действительно близко знаком. Я мог подробно рассказать петербургской посланнице о знаменитых балах и танцовальных завтраках ее парижского друга.
Третий номер программы. Маленький полный пианист с рыхлым лицом и печальными глазами поднимает с клавишей необычайные вариации, в которых странно переплетаются русские народные песни с дразнящими темами польских танцев.
Это молодой композитор Глинка, оперу которого "Иван Сусанин" готовит к постановке Большой Каменный театр. Мы внимательно вслушиваемся в заунывные мотивы глухой северной тоски, прерываемые возбужденным звоном мазурок и вызывающим топотом краковяка.
"Скифский концерт" впервые приоткрыл мне в глубоких сугробах медвежьей страны великий оазис искусства. Я говорю об этом Виельгорскому и молодому русскому композитору.
- Вы правы,- отвечает мне Глинка,- в России нет ничего, но есть песни, от которых хочется плакать...
XII
Как опытный и долголетний дипломат, барон Геккерн в первой же беседе со мною правильно определил положение нашего посольства при царском дворе. Представители революционной Франции, мы чувствовали свое одиночество в официальном Петербурге. Но личные качества и славное имя Баранта обеспечивали нам почетный прием в салонах и дворцах, где мы были всегда желанными гостями. Петербургское общество, столь чуткое к Парижу с его модами, литературой и театрами, чествовало нас, как представителей законодательной нации и великого города.
Состав петербургских послов сильно обновился незадолго до нашего приезда. В ноябре 1835 года сюда прибыли новые представители европейских дворов - посол Великобритании лорд Дэрам, прусский посланник фон-Либерман, чрезвычайный и полномочный министр короля обеих Сицилии с длинным и пышным наименованием: князь Джорж Уильдинг ди-Бутера-э-ди Радоли. Последнего мы хорошо знали по Парижу, где он занимал до октября 1835 года тот же пост при французском дворе.
Это были в большинстве случаев люди восемнадцатого века, для которых политика представлялась высшим развлечением утонченных умов, увлекательной и сложной игрой нескольких одаренных представителей европейской знати. Географическая карта служила им превосходной шахматной доской для остроумных комбинаций и находчивых ходов. Создавать новые соотношения границ из борьбы династических интриг представлялось для этих стареющих кавалеров лучшей заменой галантных приключений и соблазнительных азартов ландскнехта. Конгрессы с их политическими дебатами заменяли им салоны с их литературной болтовней. Упорное стремление оградить монархический строй от грозной революционной опасности обращало их всех к государственной системе Меттерниха. В кругу петербургских дипломатов мы были единственными представителями свободной школы великого Талейрана.
Наиболее близок нам был посол Англии, лорд Дэрам, из группы радикалов. Это была сильная и своеобразная фигура на мрачном фоне самодержавного Петербурга. Он прославился резким обличением принудительных мер против чартистов. Его считали непримиримым врагом абсолютных монархий. Английское министерство поручило ему вскрыть перед конституционной Европой опасность, грозящую ей со стороны России.
Это был человек скептического и желчного ума с меткой и острой оценкой лиц и событий. Петербургский двор относился к нему с величайшим вниманием.
"Намедни, на придворном балу,- писал Барант в одной из своих депеш,- могло показаться, что праздник устроен императором для английского посланника: столько расточено ему любезностей и предупредительности...
Чем более я присматриваюсь к политическому положению России, тем более вижу, каким весом и значением пользуется здесь Англия. Помимо страха, который внушают ее эскадра и морские экспедиции, единственный род войска, способный непосредственно напасть на русское могущество,- нужно принять во внимание, что почти вся торговля в ее руках, что ее навигация в русских портах вдесятеро больше нашей, что вывоз сырого материала, единственный источник богатства, производится англичанами"...
Вот почему русское правительство с такой тревожной бдительностью следило за всем происходящим в Англии и даже подозревало лорда Пальмерстона в намерении сжечь Кронштадт.
Впрочем, умеренный тон лондонских ораторов в зимнюю сессию 1836 года несколько успокоил императорский кабинет и сильно упрочил положение лорда Дэрама. Мы не могли не порадоваться этому: в официальном кругу царской столицы это был несомненно наш самый искренний друг.
Его отношение к нам разделял отчасти австрийский посол Фикельмон. Несмотря на различие политических программ, он был близок Баранту как француз, историк и писатель. Предки его вступили еще при Марии-Терезии в австрийские войска, но сохранили свое французское подданство. В его речах скрещивались парижанин с германцем: он любил в живой и острой беседе передавать общие размышления о судьбах Европы. Он писал большой труд о "Психологии истории", что не мешало ему поставлять для салонных спектаклей фривольные водевили. Я читал его трактат "О системе Гельвеция" и смотрел на его домашнем театре "Утро молодой вдовы".
В нашем посольстве ценили австрийского посла - его вкус к преданьям старой Франции, его острое слово и политический такт. Барант любил обсуждать с ним свои текущие научные труды.
Я же охотно готовился сообщать парижскую хронику прекрасной супруге Фикельмона, сумевшей оставить след своего имени даже в простонародной неаполитанской поговорке.
XIII
В назначенный четверг я отправился к семи часам на Английскую набережную в австрийское посольство.
Лакей с черными орлами на всех пуговицах своей голубой ливреи, доложив обо мне, довольно долго водил меня по огромным апартаментам второго этажа.
Мы, наконец, дошли до полутемного циркульного зала. Широкая арка меж колонн в противоположной стене раскрывала ярко освещенную маленькую гостиную, увешанную гобленами.
Мой проводник с почтительным поклоном указал мне на конечную цель наших странствий.
Я беззвучно прошел по густому и узкому ковру, соединяющему двери зала, и невольно остановился меж колонн входа.
Зрелище, представшее моим глазам, было не совсем обыкновенно.
У круглого мозаичного стола, какие часто встречаются в Италии, двое людей были погружены в какое-то странное занятие.
Стол был почти сплошь покрыт драгоценными камнями. В различных сосудах они переливали разноцветными искрами. Алмазы в хрустальных чашечках, рубины на фарфоровых тарелках, сапфиры и опалы в длинных бокалах - все это дробило отсветы канделябров в бесчисленных лучах этой непонятной Голконды.
Казалось, графиня Фикельмон, стоявшая у круглого стола, и гость ее, низко наклонившийся в своем кресле над сверкающим блюдцем, были совершенно заворожены мерцающей игрой этой многоцветной россыпи. Они не сразу заметили меня.
- Не правда ли, какой изумительный блеск? - задумчиво произнесла графиня, высоко поднимая крупный голубоватый алмаз, словно стремясь вобрать в его мелко граненную призму порхающие отблески бесчисленных свеч хрустальной люстры.
Незнакомец поднял голову. И над грудой этих пылающих звезд я увидел огромные светлые глаза, блиставшие ярче всех драгоценностей.
Весь облик этого безмолвного гостя чем-то сразу поразил меня. Он смотрел немного вбок и вверх, и это придавало его лицу особое выражение какого-то возвышенного созерцания. Прекрасные глаза, с громадными расширенными зрачками, словно затканными золотыми искрами, были кристально прозрачны и таинственно глубоки. Их, казалось, ширила и проясняла неведомая и торжественная дума, озарявшая изнутри весь его неправильный облик.
- Как я рада, виконт, что вы собрались ко мне до общего съезда,- произнесла, наконец, графиня Фикельмон, обернувшись ко мне и ласково протягивая мне руку.
Я переступил порог гобленной гостиной.
- Виконт д'Аршиак, атташе при посольстве короля французов,- назвала меня посланница, кинув беглый взгляд на незнакомца.
И затем, переведя на меня свою сияющую улыбку, произнесла таких же ровным тоном о своем госте:
- Monsieur де-Пушкин, двора его величества.
Придворный поднялся и с легкой непринужденностью чуть-чуть поклонился мне. "Так вот этот ярый вольтерьянец, дразнящий своим пером имперских министров,- подумалось мне,- однако, он нисколько не похож на якобинца",
- Вам, как представителю французской нации,-произнес он, протягивая мне руку,- могу сказать, что больше всего в жизни я люблю поэтов старой Франции и самая пылкая мечта моя - это побывать в Париже.
Его грудной и вибрирующий голос так же пленял, как спокойная и светлая улыбка, с которой он произносил эти приветливые слова. Я отвечал обычными любезностями, и мы продолжали беседу, сидя у круглого стола с мерцающими бокалами.
Из двери во внутренние апартаменты вошел граф Фикельмон. Он присел к нашему столу и, как всегда, сообщил ряд интересных сведений.
- Вас, вероятно, удивляет, виконт, это обилие драгоценностей. Венские ювелиры и чешские гранильщики чрезвычайно заинтересованы добычей драгоценных камней на Урале. Я имею особое поручение от ряда австрийских фирм и, как видите, временно коллекционирую образцы этих прелестных кристаллов.
И он рассказал мне, что в последние годы драгоценные камни и особенно алмазы стали модным предметом в кругу русской знати. Незадолго перед тем член прусской Академии наук барон Гумбольдт, по пути на Урал и Алтай со своей ученой экспедицией, заявил в Петербурге самой императрице, что не вернется к ней без русских алмазов.
И действительно, тем же летом министр финансов Канкрин получил извещение, что на уральских золотоносных россыпях среди кристаллов колчедана и галек кварца был найден первый русский алмаз. Это произвело сильное впечатление. И хотя добыча драгоценного камня оказалась ничтожной, все ожидали раскрытия новой богатой россыпи.
Мне вскоре, действительно, пришлось убедиться, что алмазы были в моде в Петербурге, и даже престарелые сановники, садясь за бостон, охотно вспоминали, как при Екатерине расплачивались за проигрыш в макао бриллиантами.- Представьте себе,- рассказывала мне старуха Голицына,- столы, покрытые черным бархатом, кедровый ящик, из которого черпали золотой ложечкой по алмазу за каждую девятку. Это было похоже на "Тысячу и одну ночь"...
Пока Фикельмон читал свою маленькую лекцию, я мог внимательно рассмотреть заинтересовавшего меня посетителя графини.
Его некрасивое лицо было прекрасно. Несмотря на тяжелые губы, выдвинутую Челюсть И неправильный излом носа, несмотря даже на обильную курчавую растительность вокруг всего лица, оно поражало странным сочетанием изящества и энергии. Тонкий овал и нежный, почти девичий подбородок, светлый, прекрасно отчеканенный лоб, живость и подвижность выражения, матовая чистота и даже бледность кожи, яркий блеск белоснежных зубов,- все это придавало его облику благородную и пленительную утонченность. Редкие, еле заметные брови сообщали ему странное сходство с портретами безбровых женщин Леонардо да - Винчи. Но лучше всего был взгляд - пытливо вдумчивый и временами доверчиво-беспечный, то углубленно-мечтательный, как у мыслителя, то, наивно-смеющийся, как у ребенка.
Во время беседы он поднимал иногда широким и волнообразным жестом свою руку, небольшую и необыкновенно красивую. Длинные нервные пальцы с отточенными ногтями трепетали под батистом его манжет, интригуя двумя загадочными темными перстнями не то масонского, не то древнерыцарского типа.
Пока Фикельмон говорил, Пушкин медленно шевелил груду мелких драгоценных осколков, рассыпанных на двух фарфоровых тарелках. На одной возвышались искрящимся конусом мелкие алмазы, на другой рубины. Тонкие пальцы погружались в серебрящиеся искры или же пропускали сквозь свою живую сеть алый поток сверкающих и твердых капель. Продолжая беседу, все мы невольно смотрели на эти каскады струящихся драгоценностей, замагнетизированные их живым и дробящимся блеском.
- Что напоминает вам это? - спросила Долли
фикельмон, прикоснувшись к руке своего гостя, погруженной в играющие радугой алмазные осколки.
И тут же отвечала, как бы отдаваясь какой-то мечте или воспоминанию:
- Пальцы, хватающие снег, девственный, замерзающий, оцепенелый и все же рассыпающийся осколками и искрами снег...
- А это, в таком случае, не напоминает ли капель крови, струящихся из раны? - произнес Пушкин, роняя сквозь пальцы правой руки горсточку вспыхивающих рубинов.- Снег и Кровь - какое сочетание...
- Что за мрачные сопоставления,- смеясь упрекнула хозяйка,- я, напротив того, верю, что алмазы имеют тайное благодетельное влияние на судьбу человека,- не правда ли, виконт?
- По преданию,- отвечал я,- Карл Смелый брал с собою в битвы все свои алмазы...
- И это не приносило ему счастья?
- Он выходил обычно победителем из всех сражений, пока, впрочем, не пал в битве при Нанси под шлемом, украшенным величайшим алмазом.
- Какая прелесть эти старинные предания!- воскликнула графиня.- Жуковский недавно рассказывал мне, что, по представлению восточных поэтов, тот, кто носит алмаз, угоден царям и огражден от козней врагов.
- Вы, кажется, хотите намекнуть, что мне следует заменить изумруд на этом перстне алмазом,- произнес с задумчивой улыбкой Пушкин.
- Я для этого слишком уверена в благоволении к вам императора,- отвечала хозяйка,- не назвал ли он вас умнейшим человеком в России? Monsieur Пушкин - историограф его величества,- снова пояснила мне графиня.
- У нас в историографы возводят великих поэтов,- заметил я,- Людовик XIV даровал это звание Расину...
- Очевидно, император Николай следует этому примеру,-улыбнулась графиня.
- Не думаю,- отвечал русский историограф,- тем более, что в настоящее время я ведь только смиренный прозаик и пока еще не облечен титулом покойного Карамзина.
- Историческая проза может достигать высоко художественных форм,- заметил я,- вспомните Тацита...
- О, конечно, особенно если тема так увлекательна, как гибель римских цезарей. Ведь Тацит - бич тиранов, и кажется потому он так не нравился Наполеону...
Беседа продолжалась в этом тоне. Заметив во мне интерес к литературе, Пушкин высказал ряд живых суждений о нашей поэзии, обнаружив замечательные познания во французской словесности. Он восхищался созвездием гениев, покрывших блеском конец семнадцатого века; он прочел мне на память несколько чудесных стихов Андрэ Шенье, он с увлечением говорил о прелестных сказках Мюссэ, предсказывая ему будущность романтического трагика. Он метко и кстати цитировал то элегическую думу Жозефа Делорма, то острый афоризм Шамфора. Все новинки парижской книготорговли были ему известны. Когда я удивился обширным познаниям поэта в нашей словесности, он с улыбкой отвечал мне, как оказалось, словами одного из своих героев:
Родился я под небом полунощным. Но мне знаком латинской музы голос, И я люблю парнасские цветы*.
* (Приводим пушкинские стихи в подлиннике. Издатель.)
- Это у нас семейное,- продолжал он,- отец мой знает всего Мольера наизусть, уверяю вас. Что же касается до парижских новинок, то семья графини снабжает меня всеми запрещенными книгами,- отвечал он.- А вот и мой главный поставщик.
В комнату входила полная пожилая дама в светлом вечернем наряде с широким придворным декольте, обнажающим ее скульптурные плечи.
- Maman, je vous presente le vicomte d'Archiac, attache a l'ambassade de France,- произнесла графиня Фикельмон.
Это была, как я узнал к концу вечера, известная в петербургском свете госпожа Хитрово, дочь фельдмаршала Кутузова и теща австрийского посла. В эпоху реставрации она была женою русского посланника при Тосканском дворе и с тех пор славилась своей осведомленностью в политических делах Европы.
Она сейчас же обратилась ко мне с рядом вопросов о Тьере, Моле, Брольи, маршале Мэзонё, герцоге Немурском, о возможных комбинациях новых министерств во Франции и трех кандидатах в премьеры. Она действительно была в курсе всех парламентских дел Франции и рассуждала о них с авторитетом крупного политического деятеля.
- Верьте мне, дорогой виконт,- уверяла меня она,- что Тьер будет снова премьером. Он действует, пока герцог Брольи мечтает, и я убеждена, что им вскоре придется обменяться ролями...
- У герцога, сударыня, очень продуманные и верные принципы управления,- попробовал возразить я.
- Глава правительства не имеет права философствовать,- решительно изрекла моя собеседница,- не правда ли, mon cher Pouchkine?
Она, с глубокой нежностью, долгим и ласковым взглядом обратилась к своему соседу.
- Que voulezvous, madame,- отвечал тот,- ведь герцог Брольи зять госпожи де-Сталь, с которой одна только женщина во всей Европе может соперничать умом и познаниями,- закончил он с еле заметной усмешкой, почтительно склонив голову перед своей собеседницей.
- Каким вы стали скептиком, друг мой,- с укоризной произнесла дочь Кутузова,- вы перестали верить в доблесть государственного ума и гражданской воли...
- Что может быть сладостнее дремоты на мягком изголовьи сомненья? - медлительно и слегка нараспев, как излюбленное изреченье, произнес поэт.
Вскоре салон графини наполнился. Сюда приехал высокорослый лорд Дэрам со своим атташе, эсквайром Артуром Медженисом. Этот молодой человек с бледным флегматичным лицом и розовым клювообразным носом был известен в салонах под прозвищем "больного какаду" - Он недавно лишь прибыл в Петербург с новой великобританской миссией и, подобно мне, чувствовал себя в этом обществе новичком.
Из писателей здесь вскоре появились вкрадчивый и бархатный Жуковский, безобразный и умнейший князь Вяземский. Общество разбилось на маленькие группы, и во всех углах можно было услышать любопытную новость, остроумное слово, проницательное предсказание или живую характеристику.
У круглого мозаичного стола Жуковский, подняв на свет хрустальный бокал с рубинами, как рюмку бургундского, рассказывал нескольким дамам восточное поверье о том, как влюбленный мусульманин, целуя рубин, воображает, что он лобзает жаркие уста гурии. Лорд Дэрам сообщал Фикельмону только что полученное известие о смерти матери Наполеона Легации Бонапарт, видевшей некогда всех своих детей на тронах Европы.
- Вот когда можно повторить формулу Талейрана: это не событие, это только новость,- заметил Фикельмон.
Бледнолицый Медженис долго и вяло излагал мне свои соображения о желательности постоянного объединения всех секретарей петербургских посольств.
Пушкин, перелистывая бальзаковскую "Златоокую деву", что-то живо говорил о современной французской прозе госпоже Хитрово, которая взирала на него из глубины своего кресла с выражением безграничного и счастливого обожания.
Ровный и оживленный говор царил в покоях, когда я распростился с прелестной хозяйкой и отправился досматривать Скриба в Михайловский театр.
Так протекала наша первая зима в Петербурге. Концерты Виельгорских и собранья литераторов у Карамзиных, политический салон Фикельмонов и съезды дипломатов у Строгановых, дворцовые приемы и министерские рауты понемногу раскрывали предо мною во всем его разнообразии блестящий и холодный круг столичной знати.
Вращаясь в этой среде, я постоянно помнил пари с д'Антесом и с вопросительным ожиданием всматривался в мелькающие женские лица. Но и вторичная моя попытка разгадать эту романтическую тайну потерпела полное крушение.
- Это Аврора Шернваль,- назвал мне Жорж заподозренную мною на одном вечере ослепительную красавицу,- она, конечно, стоит всяческого поклонения, но я глубоко равнодушен к ней.
Я сохранял право еще на один ход. И с напряженной пытливостью я продолжал всматриваться в точеные лица петербургских знаменитостей - Завадовской, Радзивилл-Урусовой, Шуваловой, Мусиной-Пушкиной или графини Лембтон, боясь потерять мой последний шанс на выигрыш в этой трудной и необычной игре.
XIV
В Петербурге я узнал развязку того кровавого события, которое вызвало крутой перелом в ходе моей дипломатической деятельности.
Депеши министерства сообщили нам о суде над Фиески и его сообщниками.
"Французский Меркурий" извещал, что крупнейшими событиями февраля были карнавал, первое представление "Гугенотов" и казнь Фиески. Никогда еще масленная не имела столько балов, масок, радостей и солнца.
В последний день, по выходе из танцевальных зал толпа устремилась на площадь св. Якова, где должна была состояться казнь. Многочисленные ряженые рассчитывали закончить карнавальную неделю лицезрением ужасающей драмы"...
Но экзекуция была отложена и состоялась лишь через несколько дней.
Парижские газеты вскоре доставили подробности процесса и казни.
Суд пэров приговорил корсикапца к наказанию, определенному за отцеубийство: ему предстояло шествовать на лобное место в рубахе, босиком, с черным покрывалом на голове.
В день казни Фиески сохранял невозмутимое спокойствие. Он отнесся с полным безразличием к сообщенью о замене квалифицированного ритуала казни обыкновенным порядком. На вопрос одного из помощников палача, нет ли у него редингота (день был холодный), он отвечал: - О, мне недолго придется мерзнуть...
Пока ему связывают руки за спиною, он погружается в раздумье. Затем торжественно возглашает:
- О, зачем я не оставил моих костей под Москвою, вместо того, чтоб дать себе срезать голову на родине... Но я не раскаиваюсь в моем поступке и с эшафота буду служить образцом!
Когда приготовления закончены, Фиески поднимается и оглядывает присутствующих:
- Я беру вас всех в свидетели, что я завещаю мою голову господину Лавока (его защитнику). Я записал это в моем завещании и думаю, что закон охранит мою волю... Отвечайте, кто из вас поднимет мою голову? Заявляю, что она принадлежит не ему! Я отдаю мою голову господину Лавоке, душу - богу, и тело - земле...
В семь с четвертью приготовления закончены. Приговоренных проводят длинными коридорами в сад малого Люксембурга, где их ждут три кареты. Каждый осужденный помещается в отдельном купэ с исповедником и двумя жандармами.
Незадолго до прибытия осужденных дежурные комиссары полиции открыли доступ тем присутствующим, которые находились ближе других к орудию казни. В десять минут три тысячи зрителей заполнили площадь, на которой находилось несколько генералов в полной парадной форме, королевский следователь и старший референдарий палаты пэров.
Крыши, заборы, фонари, деревья - все было усеяно любопытными. Обычные зрители публичных казней - солдаты, полицейские, девки, любители сильных ощущений, карманники и сыщики - сплошь заполнили полукруглую площадь, обстроенную ветхими домишками, на грязном фоне которых ярче вычерчивались две красных руки гильотины.
По ту сторону барьера, в кабачке виноторговца Этьена, можно было заметить герцога Брунсвика, который из окна первого этажа не отводил от эшафота красивого бинокля из слоновой кости, покрытого богатыми барельефами. Рядом с ним находился еще один англичанин весьма высокого происхождения. Говорят, каждый из них уплатил по несколько сот франков за удовольствие видеть отсекновение трех голов.
Вскоре появляются кареты осужденных. Все трое спокойно выходят и направляются к эшафоту.
Сообщники Фиески первые взошли на ступени. Корсиканец, не моргнув глазом, дважды видел, как взлетал широкий нож, окрашенный кровью его товарищей и готовый опуститься в третий раз на его шейные позвонки. Он продолжал спокойно беседовать с лицами своей охраны. Но вот помощник палача опускает руку нa eгo плёчо в знак указаний, что наступила его очередь. Фиески бестрепетно приближается к гильотине и просит разрешения обратиться к толпе с последним словом. Комиссар полиции предлагает ему быть кратким.
Немедленно же Фиески взбегает по ступенькам и громким голосом среди мертвой тишины произносит:
- Я оказал великую услугу моей стране, я умираю спокойным. Прошу прощения у всех! Жалею больше о моих жертвах, чем о моей жизни...
Произнеся эти слова, он быстро оборачивается и отдает себя в руки палача.
В семь часов пятьдесят три минуты кортеж прибыл к эшафоту. Пять минут спустя троекратная казнь была закончена.
На другой день герцог Моле писал Барану: "Фиески не был обыкновенным человеком. Вся область между Альпами и двумя морями не производила никого подобного ему. Один из свидетелей на процессе, с давних пор знавший Фиески, сравнивал его с героями Купера, но я в нем усматриваю корсиканского горца, этот неповторимый тип, сочетающий полуденное лукавство с самой безудержной энергией. Сознаюсь только вам: я усматривал в Фиески черты Наполеона, не того, которого изобразил нам господин Тьер, но того Наполеона, который подчас раскрывался мне сорвавшимися с его уст внезапными словами или невольными движениями его выразительной фигуры. Сам Фиески сознавал это. Когда он заметил, что Талейран присутствовал лишь на первом заседании верховного трибунала, он сказал: "Я был уверен, что князь не вернется: его слишком взволновал звук моего голоса, поразительно напоминающий голос императора"...
Из политических газет:
Герцог Веллингтон, упавший недавно с лошади, явился вчера в верхнем парламенте в первый раз после случившегося с ним несчастья; он был принят всеми пэрами с изъявлением радости.
Зрение герцога Сюссекского укрепляется; в комнате его уже так светло, что он может заниматься чтением.
Носится слух, что папа отправится в течение лета в Карлсбад для пользования водами.
Последнее покушение на Луи-Филиппа имело следствием, что для короля сделали новую карету. Кузов ее из дубового дерева, внутри и снаружи он обит жестью, окошки в дверцах очень узки, самая же карета столь глубока, что сидящие в ней могут не опасаться выстрелов. Карета сия шестиместная.
Содержатель кофейного дома Ренессанс нанял за 1000 франков в месяц Нину Лассав, приятельницу Фиески, в конторщицы своей кофейни. Вчера вечером стечение к нему народа было столь велико, что при входе должно было поставить двух пеших солдат и одного кавалериста. Всяк хотел видеть Нину Лассав; которая принуждена была сносить величайшие насмешки. Один из посетителей спросил у нее напрямик, как она может показываться всенародно спустя четыре дня после казни ее друга Фиески. Несчастная едва не лишилась чувств; ее принуждены были вывести на четверть часа из конторы. По возвращении своем она умоляла присутствующих оставить ее в покое и не отягчать насмешками ее судьбы, без того несчастной.
Плотник, изготовивший дерево к адской машине преступника Фиески и взятый под стражу, был оправдан верховным трибуналом, но от испугу сошел с ума.
Английские баронеты имели на прошедшей неделе многочисленное собрание для принятия мер к сохранению своих древних прав и преимуществ. Они хотят по-прежнему носить титло достопочтенных и употреблять герб, дарованный им Карлом I.
XV
Тайна д'Антеса, наконец, раскрылась мне в совершенно неожиданной обстановке.
В феврале я присутствовал впервые на придворном балу. Русский карнавал закончился большим дворцовым празднеством.
Карета французского посла в длинной цепи экипажей и саней медленно подъезжала к подъезду Зимнего дворца, украшенному барельефами и лепными карнизами в нарядном стиле эпохи регентства.
Мы поднялись по алому сукну широких парадных лестниц и прошли по зеркальным паркетам бесконечных галерей вдоль живой изгороди дворцовых гренадеров в черных медвежьих шапках, обшитых по косматому меху золотыми галунами. Сплошные шеренги придворных лакеев, егерей и скороходов, затмевающих блеском своих ливрей "с золотым басоном" мундиры камергеров, как бы продолжали непрерывный внутренний фронт царских телохранителей.
Ни при одном дворе, ни в одном европейском государстве не развита до такой степени страсть к мишурной театральности, к показной декоративности, к пышным облачениям и громкозвучным парадам, как в Петербурге. Царь - первый исполнитель и. главный режиссер этих оглушительных и ослепительных спектаклей. Он всегда позирует и превращает в лицедеев всех окружающих. Он играет в войну на маневрах, в благочестие на службах, в герои во время эпидемий, бунтов и пожаров. Я был свидетелем самой скучной из его затей - игры в веселье на придворном балу.
Мы прошли пустынные пространства мраморных апартаментов, пересекли портретную галерею российских генералов, где несколько пустых рам зияли зеленой тафтой: изображения генералов, замешанных в события 14 декабря, были неумолимо удалены из галерей героев двенадцатого года. Даже полотна несравненного Джорджа Дау разделили общую участь.
Мы проследовали в глубь дворца Фельдмаршальским залом, где изображения полководцев украшены громкими титулами их победоносных сражений под Рымником, в Тавриде, на Балканах или за Дунаем. Наконец, мы достигли просторного бального аванзала, где собирались приглашенные.
"Знатные обоего пола особы, имеющие приезд ко двору,- как писалось в официальных реляциях,- а также гвардии, армии и флота генералы, штаб и обер-офицеры и господа чужестранные министры" входили в белую залу и занимали в ней места по указаниям церемониймейстера графа Борха. Нас принимал вооруженный золоченой тростью старший оберкамергер, исполинский граф Литта, рыцарь Мальтийского ордена с монументальными жестами и трубным голосом.
Дипломатический корпус выделялся своими несхожими и богатыми облачениями. Советник австрийского посольства блистал в костюме венгерского магната с висячим доломаном, отороченным голубым песцом и богато расшитым бирюзою. Несколько восточных тюрбанов с алмазными эгретками оживляли своими сказочными очертаниями европейские мундиры. Витые узоры знаменитых иностранных отличий золотого руна, черного орла или прусского лебедя, литые изображения геральдических грифонов, фениксов и единорогов змеились и вспыхивали в атрибутах скрещенных мечей и пернатых шлемов над широким красным муаром наплечных орденских лент.
Согласно циркулярному приглашению, гости были облачены в одеяния высшей парадности - дамы в круглых богатых платьях, а кавалеры в парадных мундирах, лентах и башмаках.
Высокий белоколонный зал, весь в статуях, и лепных фризах, наполнялся жужжащим роем раззолоченных гостей, и царские вельможи: чинно располагались вдоль стен, освещенных пока еще немногими канделябрами. Полный свет давался к открытию празднества. Министры и "особы первых шести классов", статс-дамы, гофмейстерины и камер-фрейлины, послы, гвардия и двор к девяти часам были в сборе. Все было готово к ритуалу высочайшего появления.
Русский император любит пышный и сложный этикет с бесконечной иерархией чинов и трудной иностранной терминологией обрядов и титулов. По образцу австрийского и прусского двора, царь окружен гофмаршалами, обер-шенками, обер-егермейстерами, мунд-шенками, штал-мейстерами, камергерами, камер-юнкерами, камер-фурьерами и камер-пажами. Это тот улей приближенных и вельмож, в центре которого гудит и блещет пчелиная матка - сам император Николай, упоенный призрачной торжественностью этого строгого распределения своих приближенных по мертвой скале пышных дворцовых наименований старой феодальной Германии. Никто не думает в этом кругу, во сколько обходятся государству эти сотни совершенно праздных людей с громкими и нелепыми прозвищами.
В десятом часу белый зал был наполнен толпой приглашенных, напряженно ожидавших "монаршего выхода".
И вот, ровно в девять с половиной военные оркестры призывно и возбужденно заиграли торжественный марш. Ликующая фанфара в победном кличе труб и звонком бряцании литавров возвестила о приближении императора. Палисандровые двери с бронзовыми барельефами порывисто распахнулись настежь. Отряды рослых дворцовых арапов в чалмах и шароварах выстроились по обеим сторонам входа. Обер-церемониймейстер, приблизившись к раскрытым дверям, вытянул свой золотой жезл и легким стуком о паркет возвестил собравшимся о наступлении долгожданной минуты.
И, как актеры классической трагедии, размеренной походкой, с заученным выражением благосклонности на неподвижных лицах, с величавой и напряженной торжественностью, в бальную залу из полутемных кулис выступили хозяева празднества.
В то же мгновение искра беглого огня, мерцая и вспыхивая, пробежала с легким треском по мякотным нитям, протянутым по всем светильникам, и несколько тысяч восковых свеч почти мгновенно зажглись в полированной бронзе люстр и прозрачных отрогах гигантских хрустальных шандалов.
В палатах русского царя не признавали новых способов освещения. Лампы и газ европейских дворцов в них еще не вытеснили белого воска ватиканских капелл. Но невероятное количество свеч, повторенное в перспективе бесчисленных зеркал, создавало при полном освещении впечатление яркого солнца. Все было залито ровным белым сиянием и сверкало от тысячи пересекающихся лучей. Гладко отполированный мрамор зала со всех сторон отсвечивал дробящееся пылание бесчисленных неопалимых кустарников, отраженных в зеркальной поверхности стен, как жертвенный огонь в белой яшме вавилонского храма.
Оркестр оборвал приветственную ритурнель.
Император Николай, туго затянутый в мундир кирасирского полка, широкими шагами военного ввел в ряды гостей императрицу. Среди внезапно наступившей тишины , ритмично позванивали на ходу металлические украшения его костюма, и шумно шуршали плотные шелка тяжело волочась за царицей.
Свита вслед за царем прошла через зал к возвышению под тяжелым балдахином с орлами, коронами и страусовыми перьями.
Лицо царя неподвижно, как окаменелый слепок. Геометрическая прямоугольность черт создает ощущение холодной застыл ости. Выражение строгости, которым так гордится русский повелитель, как природным отличием своего сана, не изменяет ему даже на балу. Выпуклые глаза, несколько водянистого оттенка, с жуткой пристальностью пронизывают окружающих. Говорят, некоторые фрейлины трепещут от приближения этого неумолимого, как гильотина, человека и падают в обморок под его леденящим взглядом медузы.
Во внешности императора нет ничего русского. В отчетливом очерке лица, в строгом выражении и сдержанных жестах чувствуется прусский военный. Германское происхождение царя явственно сказывается на всей его наружности. Не даром он и по титулу не только император всероссийский, но еще и великий герцог Шлезвиг-Голштин-Готторпский.
Императрица поражает своей болезненной худобой и нервным подергиванием своего бледного лица. Ее хворую натуру совершенно заморили балы, приемы, парады и разъезды, а главное - трудная царская повинность обильного деторождения. "Какая досада истощить себя на создание великих князей",- сказала о ней баварская посланница.
И действительно, несмотря на свою легендарную репутацию прелестной женщины и льстивое прозвание Лалла-Рук царица совершенно блекнет в кругу выдающихся красавиц, окружающих ее трон. Вот почему она стремится затмить их всех своим облачением: шлейф ее осыпан драгоценными камнями, весь наряд оторочен горностаем, на голове переливно сверкает изумрудная диадема из крупных звезд с бриллиантовыми лучами.
Музыка заиграла полонез. Император подвел Фикельмона к императрице и, предложив руку лэди Дэрам, открыл бал традиционным в России польским.
Это не столько танец, сколько скорее медленная и томительно долгая прогулка бесконечной вереницы пар по анфиладе огромных зал. Размеры Зимнего дворца превосходят Лувр вместе с Тюильри. Весь двор, вытянутый попарно, заколыхался вдоль бесчисленных колонн в сплошном потоке драгоценных уборов, орденских знаков, золотых расшивок, шелка, перьев и струящегося серебра.
В Зимнем дворце все танцы приобретают характер учения. Этому закону подчиняется даже наша легкокрылая кадриль. Император Николай признает этот танец, ведущий свое происхождение от турниров и полковых каруселей. Как известно, маленькие эскадроны, подражавшие в своей пляске сражению, фехтовали по четверо на рыцарских празднествах. Фигуры современного контрданса сохраняют следы этих старинных военных игр.
Но и этот живой танец приобретает в холодных апартаментах северного владыки рассчитанный, унылый и мертвенный характер. Пары продвигаются и отступают методически и чинно, без малейшего оживления и порыва. Я невольно вспомнил клокочущие балы Парижской Оперы, еде танцоры, увлеченные буйным вихрем бешеного пляса, сплетаются и несутся в ликующем хороводе под оглушительное звучание дьявольского оркестра.
В перерыве танцев я несколько осмотрелся в окружающем обществе. Я увидел известных представителей русского двора - иностранцев, министров и писателей. В группе сочинителей, рядом с Жуковским и Вяземским, мне указали знаменитого фабулиста Крылова. Его рыхлое, широкое, отвисающее лицо, слегка тронутое оспой, странно напоминало безобразную маску Мирабо, на которой огонь трибуна был угашен ленивым славянским благодушием.
Среди министров меня поразило одно бледное, задумчивое и бесстрастное лицо. То был поклонник Наполеона, знаменитый защитник французских идей, едва не погибший жертвою патриотического каннибальства 1812 года, известный законовед Сперанский. Он смотрел на окружающих с тем холодным безразличием, которым навсегда отмечены облики людей, потерпевших в жизни незабываемые крушения. Эти великие обманутые и тяжко раненые замыкаются в спокойном одиночестве, ничему ни удивляются и без гнева принимают горькие выводы своего безнадежно отравленного жизненного опыта. Холодное лицо Сперанского хранило следы пережитых несправедливостей.
В парадной дворцовой толпе одно лицо особенно привлекло меня. В глубине зала сидела в массивных и высоких креслах древняя старуха. Наряд ее хранил черты старинных мод середины прошлого столетия. Напудренный парик, высокий чепец, весь в лентах, кружевах, и искусственных розах, желтое шелковое платье, шитое серебром,- все это напоминало парижские наряды эпохи Помпадур,
Лицо ее было удивительно безобразно. Огромный крючковатый нос свешивался над толстыми, отвислыми губами, покрытыми густою седою порослью. Мутными глазами разглядывала она толпу, непроизвольно покачивая своей ужасающей головой под пышными бантами и яркими розанами громоздкого головного убора..
Это была самая знатная петербургская барыня, княгиня Наталья Петровна Голицына. Ей было без малого сто лет, она помнила шесть царствований, в свое время дружила с Екатериной и бывала на приемах у Марии-Антуанетты. В молодости она отличалась необыкновенной красотой и, говорят, сводила с ума самого герцога Ришелье.
Ее называли обычно в Петербурге Princesses Moustache за обильную растительность на лице. Но в то время к старинному прозвищу присоединилось новое наименование: ее стали называть Пиковой Дамой. Дело в том, что поэт Пушкин изобразил довольно прозрачно старую Голицыну в небольшой повести под этим заглавием. Мне как-то перевели эту прелестную сказку, переплетающую нравы современного Петербурга с праздничным бытом королевского Версаля.
Поэт, видимо, хорошо изучил свою модель. Княгиня величественна, сурова и надменна. Это идол петербурской знати. Дочь русского посла при Людовике XV, Голицына рано увлеклась политикой и, потрясенная кровавой жатвой гильотины в 1793 году, решила создать в Петербурге новый оплот европейской аристократии.
Я узнал, что именно она организовала в России высшее сословие, питающее к ней за это глубочайшее благоговение. Весь сановный Петербург с тайной робостью и сознанием высокой чести проходит в известные дни через гостиную Голицыной и неизменно склоняется к сморщенной руке княгини на всех дворцовых балах. Ей представляют иностранных послов, как высочайшим особам.
Несмотря на свой возраст, она до сих пор сохранила гибкий ум, свежую память и привычку непринужденной светской беседы. "Я могу вам по воспоминаниям рассказать историю Франции,- говорила она своим хриплым каркающим голосом Баранту,- я помню день, когда Дюбарри сбросила с министерского кресла герцога Шуазеля, я видела девочку, заразившую черной оспой Людовика XV, я смотрела "Женитьбу Фигаро" в Трианоне, когда Розину играла несчастная королева Мария-Антуанетта, а цырюльника молодой граф д'Артуа, теперь, увы, свергнутый с престола Карл X..." И она горестна качала в такт рассказу своей чудовищной головой в буклях, бантах, розах и кружевах...
А между тем, бал растекался по огромным внутренним проспектам дворца, и многотысячная толпа волнообразно извивалась по его крытым улицам, площадям и бульварам, окаймленным цветущими волютами фризов и каменной листвою капителей.
Праздник был разделен на две части ужином.
"По окончании угощения,- отметил придворный летописец,- проходили в белый зал, вторительно на бал".
Многолюдство и почти беспрерывные танцы не дали мне возможности осмотреть все общество. Вовлеченный в размеренное движение тысячной толпы, выполняющей эволюции своеобразного парада под верховным командованием своего повелителя, я только к концу вечера заметил одну пару, скрытую от меня до того движением полонеза и кадрили.
В момент, когда танцующие после ужина снова выстроились для кадрили, а часть посетителей во главе с императором расположилась на эстраде и вдоль стен любоваться финалом празднества, из соседнего аванзала вышла одна необыкновенная чета.
Юная женщина, слегка побледневшая от утомления танцами, возвращалась в бальный зал, чуть опираясь о руку своего спутника. Я взглянул на них и уже не мог отвести глаз от лица вошедшей гостьи. Белый бальный наряд широко обнажал покатые плечи, слегка прикрытые ниспадающими струями темнорусых локонов и колыхающейся волною мягкого султана, прикрепленного к маленькой токе. Черная бархатка, заколотая у шеи двумя алмазами, и старинная брошь, напоминающая сложный узор флорентийской лилии, оживляли своими переливными лучами белоснежную ткань бального наряда. Серебрящийся гладкий атлас обтягивал высокую и стройную фигуру, окутанную у плеч воздушным и пышным потоком сборок и кружев. А над тоненьким ободком черного бархата у шеи, этим скромным девичьим украшением, высоко поднималось пылающее бессмертной красотой чело мифологической героини. Vera incessu patuit dea* - вспомнился мне знаменитый стих Виргилия, когда я следил за сияющим безразличием, с каким несла свое строгое очарование эта неведомая посетительница петербургского бала. Холод великого спокойствия, свойственный только гениальным полководцам и знаменитым красавицам, казалось, замыкал ее внешность в очертания чеканной завершенности.
* (Сама ее поступь обнаруживает подлинную богиню)

Юная женщина, слегка побледневшая от утомления танцами, возвращалась в бальный зал, чуть опираясь о руку своего спутника
Только вглядываясь в это отточенное с поразительной чистотой лицо, я заметил во взгляде, в очерке лба, в самом рисунке слегка улыбающихся губ какое-то еле уловимое выражение скорби. Было ли это воспоминание или предчувствие страдания, трудно было бы сказать, но, казалось, какая-то глубоко затаенная встревоженность придавала всему ее торжественному облику едва ощутимый страдальческий отпечаток, словно высветляющий глубокой сердечной болью эту великолепную античную скульптуру. В каких-то нежных чертах и ласковых оттенках взгляда и улыбки лучезарное чело Юноны неожиданно принимало трогательный облик застенчивой и пугливой девочки. Из-под кружев, перьев, локонов, алмазов и бархата неожиданно проступало прелестное личико подростка, чем-то испуганное, но доверчивое и любящее. И чувство беспредельного восхищения перед законченными формами этой гордой статуи, бестрепетно шествующей среди суетной толпы угодливых царедворцев, сменялось волною глубокой жалости к юной женщине, высоко взнесенной над жизнью и людьми счастливым и опасным даром своей неповторимой красоты.
Она входила не одна. Рука ее в длинной белой перчатке спокойно лежала на темном рукаве ее спутника. Завороженный этим солнечным обликом, я не сразу разглядел гостя, вводившего в бальный круг эту прекрасную даму. Только через некоторое время я рассмотрел его. Это был мой собеседник из салона графини Фикельмон, так изящно пересыпавший рубины и алмазы сквозь живую сеть своих тонких пальцев.
На первый взгляд близость этих двух фигур могла показаться контрастной. Но стоило вглядеться в них, чтобы почувствовать, как гармонично они дополняли друг друга. Лишенный того, что признано считать среди военных мужской красотой, т. е. высокого роста, мускулистых ног, прямых и сухих черт лица, он отличался своеобразной прелестью тонкой и необычной внешности. Лоб и глаза говорили о мыслителе и творце. Непередаваемая грация жестов, легкость и уверенность движений, глубина и прозрачность взгляда - все это заметно отличало его в пестрой дворцовой толпе. Я узнал впоследствии, что поэт был по матери довольно близким потомком абиссинских принцев, по отцу - представителем исторического рода, который мог бы оспаривать у Романовых права на престол царей. Офицерская выправка императора Николая казалась деревянной и мертвой рядом с живым и трепетным огнем, словно шевелившим зыбкую фигуру этого невысокого человека с кудрявой головой, полными губами и законченным изяществом каждого движения. Чувствовалось, что именно он имел право вводить в этот блистательный дворцовый круг первую красавицу своей страны. Казалось, облаченному хвалами царю с его военным величием противостоял некоронованный властитель, призванный шествовать с венчанным челом сквозь, вереницу грядущих столетий.
Их появление вызвало невольное движение в зале. Я заметил, как головы повернулись к выходу, и взгляды огромного собрания обратились к этой необыкновенной чете.
Это был тот момент, когда празднество как бы переламывается к своему концу. Торжественная напряженность выхода разрешалась легким возбуждением финала. Вот почему все общество невольно сосредоточило внимание на одинокой паре, медленно проходившей между двумя рядами танцоров.
Чуждый этому обществу, я вдруг ощутил неодолимую магнетическую силу редкого сочетания - неотразимой женской красоты и великой поэтической славы. Мне показалось, что бесчисленные свечи зала ярче разгорелись и сильнее запылали при появлении этих отмеченных судьбою людей. Юные фрейлины и престарелые статс-дамы, министры и генералы, дипломаты и камергеры, столетняя Голицына и шаловливая Воронцова-Дашкова - все на одно мгновение внезапно и непроизвольно застыли, словно приветствуя эту входящую чету. Сам император Николай прервал на эстраде свою беседу с послом Великобритании и, повернув голову к мраморной арке входа, долго следил взглядом за шествием по бальному залу Пушкиных.
Внизу у эстрады, в группе военных и дам, я вдруг увидел лицо моего кузена. В нем не было ничего от обычного выражения веселого удальства и беспечной шутливости. Преображенное, почти до муки, оно было обращено на прекрасную спутницу знаменитого поэта. Я подошел к д'Антесу: - Послушай, старик, я прекращаю дальнейшую игру. Изволь завтра же угощать шампанским ...
Он молча перевел на меня свой взгляд, неожиданно преображенный восхищением и страстью. Я почувствовал, что ни возражать, ни объясняться, ни говорить он не в состоянии. Я тихо отошел от него.
Новый вальс в два такта, уже принятый при дворе, вскоре вовлек все общество в свое кругообразное движение.
Так приоткрылась мне впервые тайна д'Антеса, вскоре разоблаченная перед всеми в трагическом эпилоге нашего петербургского пребывания.
XVI
Таков был наш въезд в Петербург. Так, рассеянно и между делом, начал я выполнять поручение герцога Брольи в парадном и суетном мире петербургских гостиных.
Между тем, дворцы и салоны царской столицы начинали серьезно занимать меня. Картины двора и города незаметно пробуждали во мне литератора. От дипломатических депеш меня влекло к более широким и свободным описаниям. На празднествах и смотрах я не переставал вспоминать о моем предке герцоге Сен-Симоне, который с редкой неутомимостью гениального художника, каждый вечер, среди шума лагерной или дворцовой жизни, зачерчивал свои бессмертные портреты вельмож и полководцев. Живописные страницы знаменитого мемуариста, увековечившего для будущих поколений двор Людовика XVI с его показным великолепием и темной сетью интриг, выступали предо мной заманчивыми образцами. Мне мерещились незабываемые портреты епископов, маршалов, послов, придворных поэтов, герцогинь и кардиналов. Мне казалось, что я мог бы зарисовать такие же картины придворной жизни, оставив потомству целую галерею замечательных исторических фигур. Я чувствовал, что жизнь петербургского дипломата, близкого ко всем тайным источникам государственной деятельности, может представить богатейший материал для описаний и биографий. Быть может, мечталось мне, я оставлю потомству мемуары, достойные моего великого пращура. Я выступлю в них не официальным историографом, а свободным изобразителем двора императора Николая. Обычной похвале тронных художников я противопоставлю живой и правдивый рассказ, чуждый лести и готовый на сатиру там, где ее требуют факты действительности и справедливость нелицеприятного судьи.
Неумолимый ход событий, неожиданно прервавший мое пребывание в царской столице, не дал мне возможности выполнить моего обширного литературного плана. Вместо двадцати томов Сен-Симона у меня осталось несколько записных книжек, две тонких тетради дневников и пачка архивных документов.
Единственный читатель этих отрывочных листков, я до сих пор просматриваю их с пристальным вниманием. Сухие и мертвые для других, они полны для меня глубокого жизненного смысла и неиссякающего драматизма. Из беглых записей старого дневника, из летучих заметок газетной хроники, из бесстрастных постановлений военно-судной комиссии звучат для меня живые голоса и возникают знакомые лица. Предо мной слагается во всем ее неотразимом трагизме одна удивительная и печальная повесть, созданная на моих глазах уверенною рукою самой действительности. Из запутанного сплетения умчавшихся событий снова возникает в памяти озаренный облик одного поэта, медленно омрачаемый какой-то гнетущей заботой и, наконец, мучительно искаженный взрывом неукротимого гнева и приступами смертельной тоски. И тогда события прошлого выступают предо мною с неумолимою отчетливостью и повелительно диктуют мне эту оправдательную запись, которую во всей ее исторической достоверности я представлю на суд Просперу Меримэ.

Оправдательная запись
|
ПОИСК:
|
© A-S-PUSHKIN.RU, 2010-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'