
Анонимный пасквиль и враги Пушкина
1
Друзья Пушкина поставили своей задачей охранение чести Пушкина и чести его жены и так тщательно укрыли тайну дуэли и смерти, что нам приходится разгадывать ее и до сих пор по крупицам. От друзей Пушкина пошли сборнички рукописных копий документов, относящихся до дуэли: анонимный пасквиль, письма Пушкина к Бенкендорфу, к барону Луи Геккерену, к д'Аршиаку, письма к Пушкину Геккерена и д'Аршиака, письма д'Аршиака и Данзаса к П. А. Вяземскому, письмо гр. Бенкендорфа к Строганову. Один такой сборничек кн. П. А. Вяземский препроводил великому князю Михаилу Павловичу, другой сборник перешел от кн. Вяземского к Бартеневу (ныне в Пушкинском Доме)*. В печати дуэльные документы были оглашены впервые в 1863 году в книжке: "Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса. Изд. Я. А. Исакова. СПБ. 1863". Эта книга явилась откровением для читающей России и на долгое время послужила важнейшим источником для дуэльной истории. Но среди дуэльных документов здесь не был опубликован анонимный пасквиль, список которого находился несомненно в распоряжении Данзаса. Впервые в печати пасквиль появился в книжке "Материалы для биографий А. С. Пушкина. Лейпциг. 1875". Здесь он помещен в русском переводе на первом месте в собрании дуэльных документов под следующим заголовком: "Два анонимные письма к Пушкину, которых содержание, бумага, чернила и формат совершенно одинаковы". К этому заголовку сделано примечание: "второе письмо такое же, на обоих письмах другою рукою написаны адрессы: "Александру Сергеевичу Пушкину". Эти надписи, представляющие собой неуклюжий перевод с французского, повторяют сделанные по-французски рукою Данзаса пометы на снятой им для князя Вяземского копии диплома, находящейся в помянутой выше коллекции документов, перешедшей от князя Вяземского к Бартеневу. У нас в России пасквиль был напечатан по-французски (с неполным обозначением имен) П. А. Ефремовым в "Русской старине" (т. XXVIII, 1880, июнь, стр. 330) и в русском переводе В. Я. Стоюниным в 1881 году в его книге "Пушкин", СПБ. 1881, стр. 420, 421. Отсюда пошли дальнейшие перепечатки, но подлинные пасквили в течение долгого времени оставались нам неизвестными. В военно-судную комиссию, производившую дело о дуэли, ни один экземпляр не был доставлен. Друзья, сняв копии, уничтожили подлинные экземпляры презренного и гнусного диплома. Приятель Пушкина С. А. Соболевский в 1862 году "обращался в Петербурге ко многим лицам, которые в свое время получили цикулярное письмо, но не нашел его нигде в подлиннике, так как эти лица его уничтожили". "Если подлинник и находится где-нибудь, то,- пишет Соболевский, - только у господ, мне незнакомых, или, вернее всего, в III отделении". Хотя по справке, данной III отделением в 1863 году, в его архивах и не нашлось пасквиля, но в действительности экземпляр пасквиля, полученный графом Виельгорским, в III отделении был, хранился в секретном досье и только в 1917 году стал достоянием исследователей. Еще раньше другой экземпляр пасквиля оказался в музее при Александровском лицее, куда был доставлен после 1910 года**. И тот и другой экземпляры хранятся ныне в Пушкинском Доме. Экземпляр III отделения - полный: диплом с надписью на оборотной стороне: "Александру Сергеевичу Пушкину", и конверт, в который был он вложен, на имя Виельгорского. Лицейский экземпляр - без конверта***.
* (Описание этого собрания сделано M. А. Цявловским в книге "Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина" Б. Л. Модзалевского, Ю. Г. Оксмана и M. А. Цявловского Петроград, 1924.)
** (К сожалению, не удалось установить, от кого поступил этот экземпляр в лицейский музей. Во время моих работ над первым изданием настоящей книги он мне не был известен. )
*** (книге А. С. Полякова "О смерти Пушкина" дано описание обоих экземпляров пасквиля и воспроизведение экземпляра, полученного графом Виельгорским. )
Пасквиль, полученный Пушкиным, до сих пор не подвергся научному обследованию ни со стороны внешней, ни со стороны содержания. Как это ни кажется странным, но научного анализа этого рокового памятника сделано не было. К этой работе следует приступить.
2
Приведем французский текст документа.
"Les Grands-Croix, Couimandeurs et Chevaliers du Sérénissime Ordre des Cocus, réunis en grand Chapitre sous la présidence du vénérable grand-Maître de l'Ordre, S. E. D. L. Narychkine, ont nommea l'unanimité Mr. Alexandre Pouchkine coadjuteur du grand Maitre de l'Ordre de Cocus et historiographe del Ordre.
Le sécrétaire perpetuel: C-te J. Borch".
Вот точный перевод диплома:
"Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом
Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадьютором великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена. Непременный секретарь граф И. Борх".
По форме диплом пародирует грамоты на пожалование кавалерами орденов. Термины "Les Grands-Croix-Commandeurs-Grand-Maître de l'Ordre-Sécrétaire-Grand-Chapitre" .взяты из орденской практики и встречаются в статутах различных орденов, например св. Андрея Первозванного, в установлении о российских орденах имп. Павла и т. д. Термин "коадьютор" встречается в административной практике католической церкви: когда епископ впадает в физическую или духовную дряхлость, ему дается помощник - коадьютор.
Диплом, об'являя Пушкина рогоносцем, наносил обиду чести его самого и его жены. Составитель диплома заострял обиду по двум направлениям. Во-первых, Пушкина выбирали историографом ордена рогоносцев. Официально звание историографа было присвоено высочайшим рескриптом Н. М. Карамзину; Пушкин был зачислен после женитьбы в министерство иностранных дел и получил высочайшее разрешение собирать в архивах материал для истории Петра Великого. Историк Петра Великого провозглашался историографом ордена рогоносцев. Во-вторых, Пушкин выбирался в коадьюторы, или помощники, Д. Л. Нарышкину. Его сиятельство Дмитрий Львович был знаменитым и величавым рогоносцем. Его супруга Мария Антоновна - женщина "красоты неестественной, невозможной" - была в долголетней связи с императором Александром I (1801-1814). "Д. Л. Нарышкин занимал невидное и довольно двусмысленное положение среди "свободно почтительного с хозяйкой" веселого общества в своем роскошном доме, получившем от Александра I имя "Капуи" за исполненную неги и наслаждений атмосферу, в "храме красоты", как Вигель называл внутренние аппартаменты Нарышкиной. По наблюдению современников, Дмитрий Львович "повидимому, не пользовался отношениями, существовавшими между монархом и его супругой", да едва ли и был способен на это по своему "нетвердому" уму и характеру. В конце концов, "широкое барское житье" привело к учреждению над ним попечительства, по требованию его супруги, немало способствовавшей расстройству его состояния, и престарелый обер-егермейстер на склоне дней получал на расход лишь по 40 000 руб. асс. в год"*.
* (Вел. кн. Николай МИХАЙЛОВИЧ. Русские портреты.)
Нарышкин - великий магистр ордена рогоносцев - стал рогоносцем по милости императора Александра, пошел, так сказать, по царственной линии. И первую главу в истории рогоносцев историограф должен был начать с императора Александра. Начать... a продолжать?
Мне думается, составитель диплома и продолжения хотел бы тоже по царственной линии. Если достопочтенный великий магистр был обижен в своей семейной чести монархом, то его коадьютору, его помощнику, г-ну Александру Пушкину, историографу ордена, кто нанес такую же обиду, кто сделал его рогоносцем? Надо поставить вопрос точнее: в кого метил составитель пасквиля, на кого он хотел указать Пушкину, как на обидчика его чести? На Дантеса ли? Полно, так ли это? Не слишком ли мелко после пышного начала, после именования величавого рогоносца по высочайшей милости, кончить указанием на Дантеса! Не нужно ли взять выше: не в царственного ли брата обидчика чести Д. Л. Нарышкина, не в императора ли Николая метил составитель пасквиля? Для ответа не нужно искать данных, удостоверяющих факт интимных отношений царя и жены поэта, достаточно поставить и ответить положительно на вопрос, могли ли быть основания для подобного намека. И тут должно сказать, что оснований к такому намеку было не меньше, чем, например, к намеку на близкие отношения Дантеса к Н. Н. Пушкиной.
3
В самом деле, царь интересовался Натальей Николаевной. При его дворе было много прелестных и красивых женщин, но и среди них жена поэта с ее блистательной красотой занимала одно из первых, если не первое место. 6 декабря 1836 года в Николин день на приеме по случаю, высочайшего тезоименитства, по отзыву тонкого знатока женской красоты А. И. Тургенева, Пушкина была первая по красоте и туалету. И слушая восхитительное пение в церкви Зимнего дворца, Тургенев не знал, слушать ли или смотреть на Пушкину и ей подобных?
А Пушкина и ей подобные красавицы-фрейлины и молодые дамы двора - не только ласкали высочайшие взоры, но и будили высочайшие вожделения. Для придворных красавиц было величайшим счастьем понравиться монарху и ответить на его любовный пыл. Фаворитизм крепко привился в закрытом заведении, которым был русский двор. Наш известный критик Н А. Добролюбов написал целую статейку о "Разврате Николая Павловича и его приближенных любимцев". "Можно сказать, - пишет он, - что нет
и не было при дворе ни одной фрейлины, которая была бы взята ко двору без покушений на ее любовь со стороны или самого государя или кого-нибудь из его августейшего семейства. Едва ли осталась хоть одна из них, которая сохранила свою чистоту до замужества. Обыкновенно порядок был такой: брали девушку знатной фамилии во фрейлины, употребляли ее для услуг благочестивейшего, самодержавнейшего государя нашего, и затем императрица Александра начинала сватать обесчещенную девушку за кого-нибудь из придворных женихов".
Конечно, такая характеристика грешит преувеличением, но в основу положено правильное наблюдение. Уместно дать еще добавление: "царь - самодержец в своих любовных историях, как и в остальных поступках; если он отличает женщину на прогулке, в театре, в свете, он говорит одно слово дежурному ад'ютанту. Особа, привлекшая внимание божества, попадает под наблюдение, под надзор. Предупреждают супруга, если она замужем; родителей, если она девушка, - о чести, которая им выпала. Нет примеров, чтобы это отличие было принято иначе, как с из'явлением почтительнейшей признательности. Равным образом нет еще примера, чтобы обесчещенные мужья или отцы не извлекали прибыли из своего бесчестья. "Неужели же царь никогда не встречает сопротивления со стороны самой жертвы его прихоти?" - спросил я даму, любезную, умную и добродетельную, которая сообщила мне эти подробности. - "Никогда! - ответила она с выражением крайнего изумления. - Как это возможно?" - "Но берегитесь, ваш ответ дает мне право обратить вопрос к вам". - "Об'яснение затруднит меня гораздо меньше, чем вы думаете; я поступлю, как все. Сверх того, мой муж никогда не простил бы мне, если бы я ответила отказом"*. Автор этого рассказа сообщает об одном любовном эпизоде Николая - его романе с фрейлиной Урусовой, которую он выдал замуж в 1833 году за князя Радзивилла**.
* (Ach. Gallet de Kultur "Le tzar Nicolas et la sainte Russie" Paris. 1855, стр. 202-203. Острая и любопытная книжка - при некоторых и немалых неточностях. Автор был секретарем у А. Н Демидова, князя Сан-Донато, посетил Россию. В книге между прочим есть рассказ (стр. 57-61) о том, как Пушкин, по приказанию Александра I, был подвергнут телесному наказанию. Рассказ этот был выброшен автором во втором издании книги, под измененным заглавием "La sainte Russie", 1857. В Государственной публичной библиотеке имеется экземпляр, принадлежавший С. П. Полторацкому, с его рукописной заметкой об этой книге. )
** (С этой Урусовой связывали мадригал Пушкина 1827 года: "Не веровал я троице доныне". )
Николай Павлович был царь крепких мужских качеств: кроме жены, у него была еще и официальная, признанная фаворитка, фрейлина В. А. Нелидова, жившая во дворце; но и двоеженство не успокаивало царской похоти; дальше шли "васильковые дурачества", короткие связи с фрейлинами, минуты увлечения молодыми дамами - даже на общедоступных маскарадах. Хорошо рисует влюбленного самодержца А. О. Смирнова, отлично знавшая любовный быт русского двора при Николае и, кажется, сама испытавшая высочайшую любовь. Рассказ ее относится к 1838 году, как раз к тому времени, когда вдова Пушкина скрывалась от света в деревне. "В Аничковском дворце танцовали всякую неделю, в белой гостиной; не приглашалось более ста персон. Государь занимался в особенности баронессой Крюденер, но кокетствовал, как молоденькая бабенка, со всеми и радовался соперничеством Бутурлиной и Крюденер*. Я была свободна, как птица, и смотрела на все эти проделки, как на театральное представление, не подозревая, что тут развивалось драматическое чувство зависти, ненависти, неудовлетворенной страсти, которая не переступала из границ единственно от того, что было сознание в неискренности государя. Он еще тогда так любил свою жену, что пересказывал все разговоры с дамами, которых обнадеживал и словами и взглядами, не всегда прилично красноречивыми. Однажды, в конце бала, когда пара за парой быстро и весело скользили в мазурке, усталые, мы присели в уголке за камином с баронессой Крюденер: она была в белом платье, зеленые листья обвивали ее белокурые локоны; она была блистательно хороша, но невесела. Наискось в дверях стоял царь с Е. М. Бутурлиной, которая беспечной своей веселостью более, чем красотой, всех привлекала, и, казалось, с ней живо говорил; она отворачивалась, играла веером, смеялась иногда и показывала ряд прекрасных белых своих жемчугов; потом, по своей привычке, складывала, протягивая, свои руки, - словом, была в весьма большом смущении. Я сказала мадам Крюденер: "Вы ужинали вместе с государем, но последние почести сейчас для нее". "Он чудак, - сказала она, - нужно, однако, чем-нибудь кончить все это, но он никогда не дойдет до конца - нехватит мужества, он придает странное значение верности. Все эти уловки с нею не приведут ни к какому результату"... Всю эту зиму он ужинал между Крюденер и Мери Пашковой, которой эта роль вовсе не нравилась. Обыкновенно в длинной зале, где гора, ставили стол на четыре прибора; Орлов и Адлерберг садились с ними. После покойный Бенкендорф заступил место Адлерберга, а потом и место государя при Крюденерше. Государь нынешнюю зиму мне сказал: "я уступил свое место другому"**.
* (Е М. Бутурлина, урожд. Комбурлей, - "красавица", создавшая карьеру своему мужу Д П. Бутурлину. Род. в 1805, ум. в 1859 г. )
** (Николаевская эпоха". Воспоминания французского путешественника маркиза де Кюстина. С приложением дневника А. О. Смирновой (1845). М. 1910, стр. 141. )
Картина царского кокетствования изображена очень тонко, и ярко передана любовная атмосфера, царившая на маленьких балах в Аничковом дворце. "Двору хотелось, чтобы Н. Н. Пушкина танцовала в Аничкове, и потому я пожалован в камер-юнкеры", - записал Пушкин в дневнике. Ревность диктовала огорченной соперничеством Крюденер заявление, что Николай придает странное значение верности и в своих романах не доходит до конца. Конечно, доходил до конца.
Интерес царя к Н. Н. Пушкиной не мог не обратить внимания придворных обывателей, но комеражи о царских увлечениях передавались шопотом. И Пушкин знал об ухаживании женолюбивого самодержца и неоднократно предостерегал жену*. "Не кокетничай с царем", - писал он ей не раз. По времени любопытно обращение к жене в письме из Москвы от 5 мая 1836 года: "И про тебя, душа моя, идут кой-какие толки, которые не вполне доходят до меня, потому что мужья всегда последние в городе узнают про жен своих, однако же видно, что ты кого-то довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостью, что он завел себе в утешение гарем из театральных воспитанниц. Нехорошо, мой ангел: скромность есть лучшее украшение вашего пола". "Кто- то" - конечно, Николай, высочайший повелитель театральных школ и балета. Любопытнейшую запись сделал П. И. Бартенев со слов П. В. Нащокина: "Отношение царя к жене Пушкина. Сам Пушкин говорил Нащокину, что царь, как офицеришка, ухаживает за его женою: нарочно по утрам по нескольку раз проезжает мимо ее окон, а ввечеру на балах спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены. - Сам Пушкин сообщал Нащокину свою уверенность в чистом поведении Натальи Николаевны"**.
* (Немногочисленные данные об увлечении Николая Н. Н. Пушкиной собраны М. А. Цявловским в книге "Рассказы о Пушкине, записанные П. И. Бартеневым", Москва, 1925, гр. 117-120. Здесь указана и соответствующая литература. )
** (Назв. книга, стр. 45. Нужно отметить, что Бартенев, записывая рассказ Нащокина для себя в свою тетрадь, побоялся писать "царь", а поставил три звездочки. Нечего и говорить о том, что в печать сведения о женолюбии Николая и его ухаживании за Пушкиной не могли проникнуть. )
Нас не может обмануть спокойный тон сообщений Пушкина о царе и Наталье Николаевне. Скандальную хронику двора он хорошо знал. Недаром, записав в дневнике о желании двора (читай: государя) видеть Наталью Николаевну на балах в Аничковом дворце, Пушкин прибавил: "так я же сделаюсь русским Dangeau". Маркиз де Данжо, ад'ютант Людовика XIV, вел дневник и заносил туда все подробности и интимности частной жизни короля изо дня в день. Но отместка, которую собирался сделать Пушкин, лишь в малой степени могла удовлетворить оскорбленную честь - в текущих обстоятельствах. Несомненно, Пушкин с крайней напряженностью следил за перипетиями ухаживания царя и не мог не задать себе вопроса, а что произойдет, если самодержавный монарх от сентиментальных поездок перед окнами перейдет к активным действиям? Такая мысль могла быть только страшна Пушкину, и как бы ни отгонял он ее, избавиться от нее он не мог! При самодержавном царе и нравах русского двора все - самое невероятное - могло сбыться. Царские наперсники, ближайшие слуги, для которых Пушкин был неприятным, враждебным ничтожеством, могли только оказывать всяческое содействие затеям царского сладострастия - тот же Бенкендорф, тот же Нессельроде с охотой приняли бы роли высочайших сводников. А Пушкин не принадлежал к тому разряду супругов, к которому принадлежал муж петербургской рассказчицы.
В записках барона Корфа, лицейского товарища Пушкина, сохранился рассказ об отношениях царя к Н. Н. Пушкиной, который можно оценить, только сопоставляя его с тем, что мы знаем об ухаживаниях царя от самого поэта. В апреле 1848 года Николай, беседуя с Корфом о Пушкине, сказал ему: "Под конец жизни Пушкина, встречаясь очень часто с его женой, которую я искренно любил и теперь люблю, как очень хорошую и добрую женщину, я раз как-то разговорился с нею о комеражах, которым ее красота подвергает ее в обществе: я советовал ей быть как можно осторожнее и беречь свою репутацию, сколько для себя самой, столько и для счастья мужа при известной его ревности. Она, верно, рассказала об этом мужу, потому что, встретясь где-то со мной, он стал меня благодарить за добрые советы его жене. - Разве ты и мог ожидать от меня другого? - спросил я его. - Не только мог, государь, но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моей женой... - Три дня спустя был его последний дуэль".
Николай рассказывает об эпизоде отношений своих к Пушкиной через одиннадцать лет после событий; в это время Наталья Николаевна уже носила фамилию Ланской; она пользовалась исключительным благоволением Николая, а муж ее, П. П. Ланской, делал удивительную карьеру: в это время он был командиром л.-гв. конного полка и свиты генерал-майором, а через год - в 1849 году - был назначен генерал-ад'ютантом. Понятен поэтому эпический тон повествования Николая, не дающий никакого представления о настроении Пушкина при знаменательном разговоре его с царем.
Возвращаюсь к пасквилю. Приведенных данных совершенно достаточно для того, чтобы можно было отстаивать предположенное выше толкование пасквиля: составитель пасквиля мог метить в Николая, и Пушкин мог принять такой намек. Составитель пасквиля наедине мог потирать руки и веселиться в чувствах удовлетворенной злости при одном представлении, что переживает получивший пасквиль историограф, до каких пределов раздражения доходит мнимый рогоносец, совершенно бессильный против указанного обидчика. В разорванных клочках письма Геккерена встречается фраза, которая содержит как бы ответ на оскорбления пасквиля, непонятный нам в целом, в виду отсутствия нескольких клочков... "Дуэли мне недостаточно... достаточно отмщен... письмо... самый след этого гнусного дела, из которого мне легко будет написать главу из моей истории рогоносцев..."*. Пушкин поднимал брошенную перчатку: да, он будет историографом ордена рогоносцев!
* (<"Реконструированный Н. В. Измайловым текст соответствующего места в переводе читается: "Дуэли мне уже недостаточно теперь - о, нет, и каков бы ни был ее исход, я не почту (?) себя достаточно отмщенным ни позором (?), который (?) испытает (?) от нее ваш сын, ни письмом, которое имею честь вам писать и копию с которого я сохраняю для моего личного употребления. Я хочу, чтобы вы дали себе труд самому найти основания, которые были бы достаточны, чтобы побудить меня не плюнуть вам в лицо и уничтожить самый след этого подлого дела, из которого мне будет легко составить прекрасную главу в истории рогоносцев". (См. "Летописи Государственного литературного музея", I, стр. 349). >(Прим. ред.). )
4
В пасквиле три имени. Если вести толкование по царственной линии, то великому магистру Д. Л. Нарышкину противопоставлен император Александр - первый брат, коад'ютору г-ну Александру Пушкину - император Николай - второй брат. Очевидно, и третьему названному в дипломе члену ордена рогоносцев, непременному секретарю графу И. Борху, должен быть противопоставлен или третий брат, или тот же Николай: во всяком случае, член императорской фамилии.
А. С. Поляков, изучавший пасквиль, не нашел никаких сведений об этом Борхе. "О каком И (Ж?) Борхе говорит аноним, сказать трудно. Кроме графа А. М. Борха, другого мы не знаем. Не было ли здесь описки?" Поляков хочет сказать, не надо ли инициал "И" считать ошибочным и не читать ли вместо "И" букву "А".* "Не на него ли метило анонимное письмо?" - ставит дальше вопрос А. С. Поляков. В дуэльной истории Пушкина встречается имя жены графа А. М. Борха, Софьи Ивановны Борх, урожденной Лаваль - приятельницы А. О. Смирновой и графини М. Д. Нессельроде Необходимо поэтому войти в подробности о семье Борх и представить результаты наших розысков как в литературе, так и в различных архивах.
* (См. "Николаевская эпоха", назв. соч., упоминание о С. И. Борх в дневнике А. О. Смирновой, стр. 140, а также упоминание и в фальшивых "Записках А. О. Смирновой", СПБ 1894, ч. I, стр. 36; 1897, ч. II, стр. 21 - 22. )
В 1 783 году генеральный обозный войск княжества Литовского и Люценский староста Михаил Борх грамотой Иосифа II, римского императора, был возведен с потомством в графское достоинство. В 1839 году дети его искали русского графства, и 20 сентября этого года Николай утвердил мнение государственного совета о признании в графском достоинстве графов Борх и в Российской империи.
У графа Михаила Борха было три сына: Карл, Александр и Иосиф. Старший, Карл, нас не интересует, рредний, Александр, родился 18 февраля 1804 года, младший, Иосиф, 30 июля 1807 года (мать их - Элеонора Борх, урожд. графиня де Броуне). Александр Борх делал дипломатическую карьеру, а по нему равнялся и его младший брат. По формулярному списку Александр Борх вступил на службу в коллегию иностранных дел в 1822 году студентом, в 1823 году стал актуариусом и т. д. С февраля 1826 года мы находим его в русской миссии во Флоренции в должности секретаря; с февраля 1827 по апрель 1829 года он исправлял должность поверенного в делах во Флоренции, в 1831 году отозван из Флоренции к службе в Петербург, в министерство иностранных дел, и здесь быстро пошел в гору, повышаясь и по службе и в придворном звании. В декабре 1830 года он был камергером, с апреля 1834 - в должности церемониймейстера. Служебное его положение было упрочено женитьбой на дочери его начальника графа Ивана Степановича Лаваля - графине Софье Ивановне. 26 марта 1833 года князь Вяземский сообщал А. И. Тургеневу о помолвке Лаваль: "София Лаваль помолвлена за Борха, и старик Лаваль не стоит на ногах от радости, а зыблется. Вчера во дворце у всенощной с вербою и свечой в руке il avait I'air d'un feu follet*. На время отпуска графа Лаваля (с 1 ноября 1835 по 29 мая 1836 г.), стоявшего во главе 1-й особой экспедиции в департаменте внешних сношений, Александр Борх замещал его. И он, дипломат, делавший карьеру при министре графе Нессельроде, и жена его, София Борх, были, конечно, приняты в доме Нессельроде**.
* (Остафьевский архив князей Вяземских, СПБ 1899, т. III, стр. 229. Не заключается ли в сообщении, подчеркивающем радость графа Лаваля, сбывающего свою дочь, фрейлину двора, какого-либо указания на затруднения интимного характера при выдаче дочери замуж? )
** (Граф Нессельроде находился в теснейших дружественных отношениях с австрийским посланником в Петербурге графом Лебцельтерном, женатым на другой дочери графа Лаваля - Зинаиде Ивановне. Третья дочь - Екатерина - была за мужем за кн. С. П. Трубецким, неудачным диктатором 14 декабря 1825 года. О близости и даже о родстве Нессельроде с Лебцельтерном говорит кн. П. В. Долгоруков в "Листке". (1864, 23 июля, стр. 164) и в "Будущности" (1860, № 3-4, стр. 23). )
Дальнейшая судьба графа Борха нам неинтересна, а о графине Софье Борх надо сказать, что она была дамой-патронессой, с 1834 года состояла действительным членом совета Патриотического дамского общества, с 1841 года исправляла обязанности вице-президента совета этого общества. Кн. П. В. Долгоруков, очень скупой на положительные отзывы о людях, о графине Борх пишет: "Она - одна из самых выдающихся русских женщин, одаренная высоким умом, проницательным в высшей мере и в то же время обаятельным, превосходным сердцем и благородным характером. Она дала доказательство своих качеств в своем поведении по отношению к своей сестре, жене князя Сергея Трубецкого, сосланного в Сибирь Николаем. Графиня Борх в течение всей ссылки была добрым ангелом своей сестры и ее семьи". По делам благотворительным графиня Борх была в дружеских отношениях с кн. В. Ф. Одоевским. Какую-то роль в дуэльной истории Пушкина графиня Борх играла. В фальшивых записках А. О. Смирновой читаем о письме Софьи Борх, в котором она оправдывает чету Нессельроде от упреков в скверном отношении к Пушкину и в чрезмерно приветливом к семье Геккеренов. Поверим на этот раз запискам Смирновой. Возможно, что именно о ней упоминает старый Геккерен в письме к приемному сыну. "Мадам Н. (конечно, Нессельроде) и графиня Б. тебе расскажут о многом. Они обе горячо интересуются нами". Если это предположение верно, то тогда ее надо считать одной из двух высокопоставленных дам, бывших поверенными всех тревог Геккерена, которым он день за днем давал отчет во всех своих усилиях порвать несчастную связь сына с Н. Н. Пушкиной. По всем данным графиню С. И. Борх должно считать в лагере врагов Пушкина.
Переходим к младшему брату, Иосифу Борху. В службу он вступил в ведомство государственной коллегии иностранных дел в 1827 году студентом, в актуариусы произведен в апреле 1829 года, в протоколисты в апреле 1832 года; в титулярные советники в апреле 1835 года; в этом же году назначен вторым переводчиком при 2-м (позднее 3-м) отделении департамента внутренних сношений. В этой должности мы застаем его в конце 1836 года. Кроме того, он имел и придворное звание: 7 апреля 1832 года он был пожалован в камер-юнкеры. Состояние его, по формуляру, заключалось в 2 000 душ в Витебской губернии. В 1839 году он был уволен в отпуск за границу к минеральным водам, а в апреле 1840 года министр императорского двора князь Волконский уведомил придворную контору о том, что титулярного советника графа Борха, согласно прошению его, высочайше повелено уволить от службы с награждением следующим чином. На сем основании он был исключен из списков. Вот и все официальные сведения, которые удалось нам разыскать о графе Иосифе Борх. Но надо найти ключ к наименованию его непременным секретарем ордена рогоносцев, наряду с Нарышкиным и Пушкиным.
Женился он 13 июля 1830 года на Любови Викентьевне Голынской, а она была дочерью тайного советника Викентия Ивановича Голынского от брака его с Любовью Ивановной Гончаровой и приходилась таким образом сродни Наталье Николаевне Пушкиной. Любовь Ивановна Гончарова была внучкой основателя фамилии Гончаровых, Афанасия Абрамовича, а внуком его был дедушка Натальи Николаевны, Афанасий Николаевич. Любовь Ивановна умерла в 1822 году, оставив мужу своему Викентию Ивановичу Голынскому огромное потомство (восемь человек детей) и большой наследственный процесс, неразрешенный при жизни Голынского (умер до 1832 года) и законченный уже опекуном малолетних Голынских - сенатором Павлом Сумароковым и действ. ст. сов. Петром Борейша*.
* (Несколько строк дальнейшего текста, относящегося к послужному списку Голынского, редакцией опущено. )
Из многочисленного потомства, оставленного Голынским, наше внимание привлекают две старшие дочери: Ольга (в 1813 году по послужному списку отца) пяти лет и Любовь (в этом же году) одного года. Ольга Викентьевна Голынская - та самая, которая вышла в 1836 году замуж за приехавшего в Россию французского журналиста Леве-Веймара, автора благожелательной памяти Пушкина статьи в "Journal des Debats". Любопытные о Голынской сведения находим в письме сестры Пушкина Ольги Сергеевны к отцу Сергею Львовичу от 2 ноября 1836 года: "Вы пишете мне о браке m-lle Гончаровой (выходившей за Дантеса), а я сообщу вам о браке ее кузины m-lle Голынской. Помните вы бывшую невесту Погодина (генерал-интендант действующей армии), она об'ехала Европу совсем одна в поисках приключений, вернулась из Парижа под вымышленным именем в сопровождении молодого французского маркиза, посмеиваясь над светом и в особенности над стариком Погодиным, который осыпал ее деньгами и подарками. Она проездом сейчас здесь и замужем - за кем бы вы думали - за известным Леве-Веймаром! Говорят, она глупа, а я думаю, что она очень умна: ей 34 года, она некрасива; быть три раза просватанной и выйти замуж за Веймара - в самом деле это не так глупо!" В 1836 году она уехала вместе с мужем из России; Леве-Веймар был не только журналистом, но и дипломатом. Он поддерживал русские связи; находим о нем много упоминаний и в дневниках А. И. Тургенева, и в его письмах к кн. П. А. Вяземскому о нем и о его жене, о последней довольно странного характера. Так, 2 января 1839 года Тургенев сообщал, что он, утром получив от князя Вяземского поручение к Леве-Веймару, пошел "в Веймар, но уже не застал Льва, а львица еще покоилась в об'ятиях Морфея, avec un M"*.
* (С неким М.)
Повидимому, Ольга Голынская не была банальной светской женщиной и не скрывала своих свободных нравов. О сестре Любови знаем меньше, но то, что знаем, свидетельствует также о большой легкости нравов. Поразительное известие о чете Борх идет от Пушкина. В библиотеке М. Н. Лонгинова, находящейся ныне в Пушкинском Доме, оказался экземпляр известной книжки Аммосова о "Последних днях жизни Пушкина". Лонгинов внимательно прочел эту книжку - он писал о ней отзыв для "Современной летописи" - и сделал на листках, вклеенных в книгу, некоторые фактические дополнения: так, он вписал текст пасквиля, пометив его в серии документов под № XIV, а под № XVII записал: "Подробности о переезде Пушкина и Данзаса от кондитерской Вольфа до места поединка". Подробностей записано М. Н. Лонгиновым две: одна воспроизведена Лонгиновым в рецензии на книгу Аммосова*, другая: "по дороге им попались едущие в карете четверней граф И. М. Борх (см. о нем приложение)** с женой, рожденной Голынской. Увидя их, Пушкин сказал Данзасу: "Voila deux menages exemplaires" (вот две образцовых семьи) и, заметя, что Данзас не вдруг понял это, он прибавил: "ведь жена живет с кучером, а муж - с форейтором"***. Пушкин отразил в своей фразе светскую молву, сказал что-то общеизвестное и непонятное только для Данзаса, служившего вне Петербурга и жившего здесь только наездами.
* (Привожу запись Лонгинова: "Покойная графиня А. К. Воронцова-Дашкова встретил" в это время Пушкина и Данзаса, едущих, на острова. Она догадалась о причине этой поездки, искала кого-нибудь, чтобы помешать делу, и, не найдя к тому возможности, приехал домой в отчаянии. Она знала, что было уже поздно, и повторяла печально: "вы увидите, что с Пушкиным случилось большое несчастье". )
** (Под № 14 - переписанный рукою Лонгинова пасквиль. )
*** (Указанием записи Лонгинова в книжке Аммосова я обязан П. Е. Рейнботу. )
Так вот кто такой - граф Иосиф Борх, непременный секретарь ордена рогоносцев; он был из круга "астов", как говорили тогда. Вспомним признание кн. А. В. Трубецкого о том, что в 30-х годах в высшем петербургском свете было развито бугрство и что Дантес был связан с Геккереном на этой почве*. Да, это было распространенным явлением в Петербурге среди высшего света - преимущественно в дипломатическом кругу. Поставляли "астов" и два учебных заведения: пажеский его величества корпус и школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в которой учился Лермонтов. Сохранилась значительных размеров рукописная стихотворная литература на педерастические темы, процветавшая в школе гвардейских подпрапорщиков, целые поэмы, среди них немало произведений пера Лермонтова. В дальнейшем изложении нам еще не раз придется встречаться с общественной группировкой по "астическому" признаку.
* (Имеется в виду напечатанный П. Е. Щеголевым в его книге и в настоящем издании опущенный "Рассказ об отношениях Пушкина к Дантесу" кн. А. В Трубецкого".> (Прим. ред.). )
О жене Борха "с кучером" встречаем ряд сведений в письмах Андрея Николаевича Карамзина к матери Е. А. Карамзиной, писанных летом 1837 года из Баден-Бадена.
5
На несколько мгновений перенесемся в этот курорт, излюбленный русской знатью. Русская аристократия по сезонам всегда переполняла его; так было и в летний сезон 1837 года - после убийства Пушкина. Тут сошлись все наши, tout le monde* и А. О. Смирнова с мужем, и кн. Ольга Долгорукая, и господин Платонов, безнадежно влюбленный в Смирнову, и чета Киселевых, и граф Лев Соллогуб, и Свистуновы, и Радзивилл, и Полуектова, и графиня Панина... Словом все. И все они sont toujours et partout les me-mes**. Тут же и Дантес с женой, и старый Геккерен, и графиня Борх с мужем***. На короткое время наезжал и великий князь Михаил Павлович. Прогулки, танцы, балы приемы... Андрей Карамзин познакомился с ней, с графиней Борх, 25 июня на празднике русской колонии в день рождения Николая. "За обедом, - пишет он матери, - я сидел между Полуектовой и графиней Борх, с которой тут же познакомился. Nous avions un sujet tout trouve, Ernest**** Штакельберг. Скажите ему, что она сперва очень покраснела, но потом обошлось, и так как нам обоим беспрестанно подливали, то к концу обеда мы стали очень откровенны. Она очень хороша". Она очень понравилась Карамзину, и у него нет для нее других эпитетов, как: миленькая, прелестная, хорошенькая. Он был ее спутником в partie de plaisir*****, кавалером в танцах. Но мужа он не выносил, он аттестовал его несносным, грубым, глупым и просто "умником" в кавычках. "В последнее воскресенье, - писал Карамзин матери, - ездил я верхом с графиней Борх... на высокую гору. Мы все были веселы и довольны, одна бедная и милая графиня беспокоилась оттого, что муж, ехавший за нами в коляске, не мог следовать по дурной дороге и был вынужден воротиться... Кислая фигура de ce vilain ayorton de mari наводила уныние на все общество". Avorton de mari - хорошее прозвище для рогоносца, живущего с форейтором, - avorton - выкидыш, недоносок, выродок - муж-выкидыш, муж-недоносок! И среди этого русского общества царил Дантес. Карамзин встречался с ним на общих забавах и удовольствиях. Дантес участвовал и в этой поездке с Карамзиным и четой Борх: "за веселым обедом в трактире, подстрекаемый шампанским, он довел нас до судорог от смеха. На балу в присутствии семьи герцога Баденского Дантес предводительствовал мазуркой в паре с графиней Борх.
* (Весь свет.)
** (Они всегда и везде одни и те же.)
*** (Речь идет именно о чете - Иосиф и Любовь Борх. Из формулярного списка видно, что в июне 1837 года Иосиф Борх получил отпуск к минеральным водам.)
**** (У нас была уже готовая тема, Эрнест...)
***** (В развлечениях.)
А вот и русский бал у Полуектовой... "Странно было, - писал Карамзин, - мне смотреть на Дантеса, как он с кавалергардскими ухватками предводительствовал мазуркой и котильоном, как в дни былые". А у рулетки торчал старый Геккерен! Блестящая иллюстрация к лицемерным утверждениям о том, как отвернулись все русские, бывшие в Бадене, от убийцы Пушкина.
А вот и еще одно неизвестное в литературе и заслуживающее всяческого доверия свидетельство об отношении к Дантесу и Пушкину государева брата, великого князя Михаила Павловича. Это свидетельство принадлежит князю Одоевскому и извлечено из его дневника: "Встретивши Дантеса (убившего Пушкина) в Бадене, который, как богатый человек и барон, весело прогуливался с шляпой набекрень, Михаил Павлович три дня был расстроен. Когда графиня Соллогуб-мать, которую он очень любил, спросила у него о причине его расстройства, он ответил: "Кого я видел? Дантеса! - Воспоминание о Пушкине вас встревожило? - О, нет! туда ему и дорога! - Так что же? - Да сам Дантес! бедный!- подумайте, ведь он солдат".
"Все это было, - добавляет Одоевский, хорошо лично знавший Михаила Павловича, - в нем - не притворство, но таков был склад его идей"*.
* (Гос. публ. библиотека, бумаги В. Ф. Одоевского, сборник №15. Как тут не вспомнить слова П. И. Бартенева: "Высокая и в высшей степени примечательная личность этого человека почти неизвестна в русской литературе... Пушкин высоко ценил и любил великого князя". "Русский архив", 1873, т. I, 0424 -0425. )
Вот все наши сведения о графине Любови Борх. Мы еще знаем, что графиня Эмма Борх, рожденная Голынская, умерла 11 марта 1868 года и похоронена в Париже на кладбище Montmorency.
Но "по царственной линии" для Борха пока нет материалов.
6
Но если даже с Борхом по царственной линии и ничего не выходит, все же у нас достаточно оснований для предположения, что анонимный пасквилянт наносил язвительную рану чести Пушкина намеком на Николая. Если мы допустим такое предположение, то для нас станет понятным и участие посла Геккерена в фабрикации пасквиля. Обвинение Геккерена в составлении диплома, резкое и решительное, идет от Пушкина, но это обвинение страдает психологической неувязкой, пока мы думаем, что пасквиль метил в Наталью Николаевну и Дантеса. Трудно принять, что Геккерен хотел навести ревнивое внимание Пушкина на любовную игру своего приемного сына: не мог же он думать, что Пушкин пройдет молчанием такой намек. А вот направить, через анонимный пасквиль, намек на царя - это выдумка, достойная дипломата, и автор ее, по собственному соображению, должен был остаться в состоянии полной неуязвимости. Мотивы, толкавшие Геккерена на учинение неприятности Пушкину, ясны.
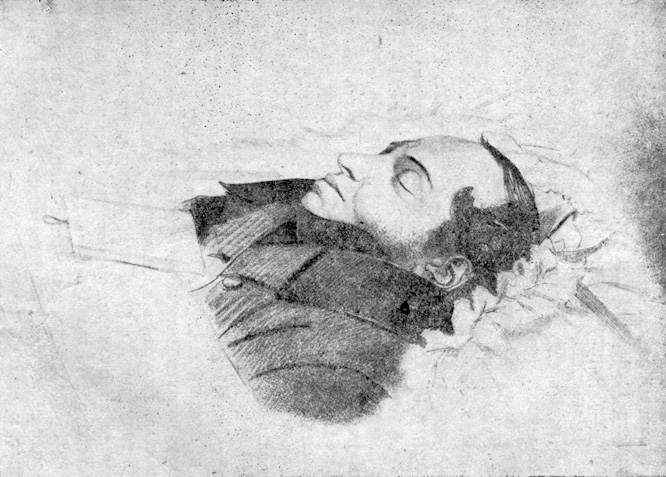
Пушкин в гробу. Рисунок Бруни
Дело в том, что осенью 1836 года чета Геккеренов, отец и приемный сын, были одурачены Пушкиным. В истории дуэли мы привели бесспорные свидетельства того, что мысль о женитьбе Дантеса на Катерине Гончаровой возникла и существовала до получения Пушкиным анонимных писем и, следовательно, до вызова.
Вылущивая зерно истины из рассказа А. В. Трубецкого, я приходил к заключению: правдоподобным остается один факт - "раз Дантес и Н. Н. Пушкина были настигнуты поэтом; Н. Н. об'яснила свое интимничанье намерением Дантеса сделать предложение ее сестре Екатерине, и об этой своей, об'ясняющей свидание, уловке довела до сведения Дантеса". Дантес был настигнут Натальей Николаевной и вынужден был подтвердить перед Пушкиным об'яснение Н. Н. Я не обратил в свое время внимания на одно свидетельство, весьма авторитетное, приведенное в воспоминаниях Альфреда Фаллу, известного французского политического деятеля, монархиста и клерикала, биографа пресловутой m-me Свечиной. В 1836 году, на 26 году от рождения, вместе с маркизом де ла Бульери, он посетил Россию и побывал в Петербурге. M-me Свечина дала ему рекомендации к m-me Нессельроде, жене вице-канцлера, а m-me Нессельроде обласкала странствующих французов и приставила к ним показывать город и жизнь сначала своего сына Д. К. Нессельроде, а потом блестящих кавалергардов - князя Александра Трубецкого, знакомого нам по его рассказу о дуэли, и барона Жоржа Геккерена. Уезжая летом из Петербурга, Фаллу увозил самое светлое о них воспоминание. Через год он появился в салоне m-me Свечиной. "Первое лицо, которое я встретил, m-me Нессельроде. Эти две подруги, разделенные скорее обстоятельствами, чем расстоянием, редкий год проводили без свиданий. Когда имп. Николай потребовал от Луи-Филиппа отзыва Баранта, Свечина и Нессельроде назначали встречи в Франкфурте, Бадене или провинциальном французском городке, где легко было соблюсти инкогнито, и когда отношения между Россией и Францией налаживались, Нессельроде проводила в Париже недели и посвящала почти все свои вечера Свечиной". Фаллу стал расспрашивать и о петербургских новостях, и от нее узнал и о катастоофе, постигшей Геккерена. Фаллу вслед за этими словами сообщает следующий рассказ из непререкаемого источника (de source irrecusable). "Однажды утром Геккерен увидел у себя в комнате Пушкина, поэта самого популярного в России". "Как случилось, господин барон, - сказал Пушкин ему, - что я нашел у себя письма вашей руки?" Он держал в руке письма, действительно содержавшие выражение пылкой страсти. - "У вас нет повода считать себя обиженным, - ответил Геккерен, - m-me Пушкина согласилась их принять у меня только для того, чтобы передать их своей сестре, на которой я хочу жениться". - "В таком случае женитесь". - "Моя семья не дает мне согласия". - "Добейтесь его". Эта беседа создала очень щекотливое положение, и если бы брак не состоялся, m-me Пушкина могла бы быть серьезно скомпрометирована. Жорж Геккерен долго не колебался, и немного спустя Петербург поздравлял его с браком"**. "Непререкаемый источник" - конечно m-me Нессельроде. Думаю, что эта женщина, смахивавшая на мужчину, державшая в руках своего мужа, заправлявшая мнением света, положительная и точная, друг семьи Геккеренов, правильно передала историю первого столкновения Пушкина с Дантесом. Теперь можно поверить и в записочки, которые, по словам Трубецкого, носила горничная Н. Н. Пушкиной к Дантесу. Сопоставим и показание Дантеса в военно-судной комиссии о коротеньких записочках, коих выражения могли возбудить щекотливость Пушкина как мужа. Да, так оно и было в действительности, как рассказывала Нессельроде - так случилось в конце лета 1836 года. Слово о женитьбу вылетело из уст Дантеса совсем неожиданно для него самого. 11 сентября кавалергарды перешли с Черной речки на городские квартиры, начался осенний городской сезон, и проект свадьбы повис в воздухе. Неохота самому в петлю голову класть, и, понятно, Геккерены - и Луи и Жорж - стремились отвязаться от вылетевшего слова, отбиться от совсем неподходящего брака. Конечно, росло чувство раздражения и ненависти к Пушкину, являлось желание отмстить ему за то дурацкое положение, в которое он их поставил. "В то время, - вспоминает Трубецкой, - несколько шалунов из молодежи - между прочим Урусов, Опочинин, Строганов, мой cousin* - стали рассылать анонимные письма по мужьям-рогоносцам".
* (Двоюродный брат.)
** (Memoires d'un royal'ste par le comte de Falioux. Paris, 1888, т. I, p. 186-187 и 134-137. Выдержки из воспоминаний - специально о русском дворе и Петербурге - приведены в брошюре Н. И. Радцига "Россия Николая I по мемуарам Фаллу". Ярославль, 1926. Рассказ Фаллу, по сви...... )
Естественно возникала мысль отвести внимание Пушкина от случая с Дантесом и направить его гнев в другую сторону. Отсюда - диплом по царственной линии с намеком на царя и Наталью Николаевну. В таком деле мог принять участие Геккерен. Ему не нужно было самому писать этот диплом, достаточно было внушить, вдохновить кого-либо из окружавшей его молодежи.
Что же вышло? Пушкин получил диплом, понял куда направлена стрела, сразу разгадал игру Геккерена, сразу признал его составителем диплома. В черновых набросках письма к Геккерену читаем: "Не прошло и трех дней в розысках, как я узнал в чем дело. Если дипломатия ничто иное, как искусство знать о том, что делается у других, и разрушать их замыслы, то вы отдадите мне справедливость, сознаваясь, что сами потерпели поражения на всех пунктах". На клочках другого разорванного черновика письма Пушкина можно прочесть: "удар, который, как полагало... безымянное письмо было получено... я получил три экземпляра... были розданы... смастерили с такими ничтожными предосторожностями... с первого взгляда я напал на след сочинителя. Я более не беспокоился... я был... отыскать моего шутника (моих шутников)"...
В действиях Пушкина в ноябре месяце резко намечаются две линии: одна - в сторону Дантеса, другая - в сторону Геккерена. На нападение он ответил двумя ударами. Первый удар пришелся по Дантесу. Пушкин послал ему вызов. Ход был совершенно неожиданным для Геккерена буквально его ниспроверг. Геккерен взвился, завертелся, завизжал, как пришибленная собачонка, и бросился спасать положение. История его метаний известна. Тут волей-неволей приходилось поступить по слову, вылетевшему из уст Дантеса летом. Поставив Дантеса на колени, Пушкин собирался нанести второй удар уже по нидерландскому посланнику. Вызов Дантеса был взят обратно, первый хлопотун Жуковский собирался почить от посреднических дел, и вдруг ему передают слова Пушкина, сказанные им в салоне кн. В. Ф. Вяземской: "я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите, как будут говорить о мести, единственной в своем роде; она будет полная, совершенная; она бросит человека в грязь; громкие подвиги Раевского - детская игра перед тем, что я намерен сделать"... О чувстве, с каким Пушкин говорил эти слова, можно судить по рассказу графа Соллогуба о беседе, которую Пушкин имел с ним 21 ноября у себя на дому. "Послушайте, вы были более секундантом Дантеса, чем моим; однако, я не хочу ничего делать без вашего ведома. Пойдемте в мой кабинет". Он запер дверь и сказал: "Я прочитаю вам мое письмо к старику Геккерену. С сыном уже покончено... Вы мне теперь старичка подавайте". Тут он прочитал мне известное нам письмо к голландскому посланнику. Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения. Что мог я выразить против такой сокрушительной страсти?" 2ком.
Небольшое отступление - на тему о громких подвигах Александра Раевского. Скандал был огромный и разразился во время пребывания царицы в Одессе. Раевский, у которого был длительный роман с женой князя. М. С. Воронцова, встретил ее на улице и отчитал на всю Одессу. Он кричал ей что-то вроде: "Позаботьтесь о нашей дочери" и т. п. Чтобы удалить Раевского, Воронцов обратился по начальству с доносом на политическую благонадежность Раевского, и по высочайшему повелению он был выслан из Одессы. Скандал разошелся по всей России. Не совсем ясны мотивы поведения Раевского. Он устраивал скандал своей возлюбленной, но из-за кого? Не муж стал поперек дороги, а кто-то другой, но кто? Императрица долго не хотела слышать о Раевском: по выражению Николая, он ее встревожил.
Граф Соллогуб писал свои воспоминания через несколько десятков лет после событий, и ему казлось, что письмо, читанное ему Пушкиным в ноябре, было тем самым, которое было послано в январе: впрочем, Соллогуб добавлял: "только прежнее письмо было, если я не ошибаюсь, длиннее и, как оно ни покажется невероятным, еще оскорбительнее". Письма, конечно, не были тожественны, но некоторые места в январском письме могли быть воспроизведены с приблизительной точностью. В изложении истории дуэли я приходил к заключению, что частичное осуществление плана необычайного отмщения Геккерену нужно видеть в известном письме к графу Бенкендорфу от 21 ноября. Нельзя не обратить внимания на то, что 21 ноября происходила беседа с Соллогубом. Решаюсь привести вновь это письмо целиком:
"Граф! Считаю, что я вправе и даже обязан сообщить вашему сиятельству о том, что произошло в моем семействе. Утром 4 ноября я получил три экземпляра безымянного письма, оскорбительного для моей собственной и для жены моей чести. По виду бумаги, по слогу письма, по его редакции, я с первой же минуты догадался, что оно от иностранца, человека высшего круга, дипломата. Я стал разыскивать. Узнаю, что семь или восемь особ в тот же день получили по экземпляру такого же письма, запечатанного и адресованного на мое имя, под двойным конвертом. Большая часть лиц, его получивших, подозревая гнусность, не переслали его ко мне. Вообще негодовали на столь подлую и незаслуженную обиду; но, повторяя, что поведение моей жены безукоризненное, говорили, что поводом к этой гнусности послужило настойчивое ухаживание за ней г. д'Антеса.
Не мне было допустить, чтобы в данном случае имя жены моей было связано с чьим бы то ни было именем. Я поручил передать это г. д'Антесу. Барон Геккерен приехал ко мне и принял вызов за г. д'Антеса, прося у меня двухнедельной отсрочки.
Случилось так, что в этот условленный промежуток времени д'Антес влюбился в мою свояченицу, девицу Гончарову, и стал просить ее руки. Узнав об этом по общественным слухам, я поручил попросить г. д'Аршиака (секунданта д'Антеса) смотреть на мой вызов, как на несостоявшийся. Между тем я удостоверился, что безымянное письмо было от г. Геккерена, о чем считаю долгом уведомить правительство и общество.
Будучи единым судьею и блюстителем моей и жениной чести, а потому не требуя ни правосудия, ни мщения, я не могу и не хочу кому бы то ни было пред'являть доказательств того, что утверждаю.
Во всяком случае надеюсь, граф, что это письмо служит доказательством уважения и доверия моего к особе вашей. С этим чувством имею честь быть и проч.".
Чтобы ощутить всю чрезвычайность, всю разительность замышленной Пушкиным мести, полной, совершенной, опрокидывающей человека в грязь, нельзя остановиться на том толковании письма, которое я дал в очерке дуэльной истории, надо итти дальше, надо принять предлагаемое толкование диплома "по царственной линии". Привлечь высочайшее внимание к пасквилю, пред'явить его царю: "не я один, муж Натальи Николаевны, помянут здесь, но и брат ваш, да и вы сами, ваше величество. А смастерил этот пасквиль господин голландский посланник барон Геккерен. Обратите на его голову громы и молнию!!" Такой диплом для Николая Павловича то же, что кусок красной материи для быка. Да, в таком случае произошел бы, действительно, скандал, единственный в своем роде, и громкие подвиги Раевского, конечно, детская игра в сравнении с ним! Если же остаться при прежнем толковании пасквиля как намека на Дантеса, тогда бездоказательная компрометация Геккерена по частному, семейному поводу, сделанная бездоказательно в оригинальном письме, представлялась бы бледной попыткой с негодными средствами. Такое уведомление не достигло бы цели - это надо признать.
Не было бы эффекта!
Указание на Геккерена как на составителя подметного письма, задевающего семейную честь императорской фамилии, сослужило бы Пушкину несомненную пользу и в отношениях царя к чете Пушкиных. Произошло бы поражение и другого опасного - гораздо более опасного, чем Дантес, - поклонника Натальи Николаевны - Николая Павловича Романова. Атмосфера была бы разрежена. Вот та тонкая игра, которую хотел повести Пушкин!
Пушкин был обязан к величайшей осторожности в своих действиях и свое крайнее раздражение должен был ввести в тихие берега светского благоприличия. Николай должен был почувствовать намек Пушкина, но весь гнев его должен был пасть на Геккерена.
Особый смысл приобретает фраза письма: "не мне было допустить, чтобы, в данном случае, имя жены моей было связано с чьим бы то ни было именем". По принятому толкованию пасквиля ни с чьим, кроме Дантеса, и не связывали, а при предлагаемом - выражение Пушкина понятно: с чьим бы то ни было именем: Дантеса, царя - все равно.
Каким образом Пушкин мог осуществить свое намерение? К кому он должен был обратиться? Прямо к царю он не имел доступа. Значит, к одному из приближенных. Письмо 21 ноября принято считать адресованным к Бенкендорфу (3 ком.), хотя в рукописных списках и при первом появлении в печати оно было отнесено к Бенкендорфу только предположительно. Мне представляется возможным отнести его теперь к графу Нессельроде, министру иностранных дел. Если компрометировать Геккерена, то, конечно, надо делать это по соответствующему ведомству, не по III отделению, а по ведомству иностранных дел. Остается открытым вопрос: отправил ли по адресу свое письмо Пушкин? В обнаруженном в 1917 году секретном досье III отделения такого письма к Бенкендорфу не оказалось - лишнее возможное подтверждение предположения о Нессельроде как адресате письма. А если оно направлено Пушкиным графу Нессельроде и им получено, то могло ли случиться так, что Нессельроде скрыл его в тайнике своего стола и не дал ходу? На этот вопрос с глубоким убеждением могу ответить: да, так могло быть (4. ком).
7
Графиня М. Д. Нессельроде играла виднейшую роль в высшем свете и при дворе. На этот счет показания современников сходятся. Дадим слово ее поклоннику, Альфреду Фаллу: "граф Нессельроде играл в течение долгого периода в России ту же роль, какую играл в Австрии Меттерних; он был непохож только по внешности. Это был человек небольшого роста, с умными глазами, закрытыми толстыми стеклами очков. Великосветские манеры, которым я удивлялся в австрийском канцлере, достались в удел графине Нессельроде; ее лицо и рост были благородны и внушительны. Те, кто видел ее на короткое время и официально, сделали ей репутацию упрямой и жесткой женщины. Но это ошибка и несправедливость.... Графиня при дворе и даже в глазах императорской фамилии пользовалась моральным авторитетом, независимо от ее высокого положения".
Вот отзыв другого поклонника графини Нессельроде, барона М. А. Корфа:
"Графиня Мария Дмитриевна Нессельроде, по необыкновенному уму своему и высокому просвещению и особенно по твердому, железному характеру, была, конечно, одною из примечательнейших, а по общественному своему положению и, влиянию на высший петербургский круг одною из значительнейших наших дам в царствование императора Николая. С суровой наружностью, с холодным и даже презрительным высокомерием ко всем, мало ей знакомым или приходившимся ей не по нраву, с решительной наклонностью владычествовать и первенствовать, наконец, с нескрываемым пренебрежением ко всякой личной пошлости или ничтожности, она имела очень мало настоящих друзей и в обществе, хотя, созидая и разрушая репутации, она влекла всегда за собой многочисленную толпу последователей и поклонников; ее, в противоположность графу Бенкендорфу, гораздо больше боялись, нежели любили. Кто видел ее только в ее гостиной, прислоненную к углу дивана, в полулежачем положении, едва приметным движением головы встречающую входящих, каково бы ни было их положение в свете, тот не мог составить себе никакого понятия об этой необыкновенной женщине, или разве получал о ней одно понятие, самое невыгодное. Сокровища ее ума и сердца, очень теплого под этой ледяной оболочкой, открывались только для тех, которых она удостаивала своей приязнью; этому небольшому кругу избранных, составлявших для нее, так сказать, общество в обществе, она являлась уже, везде и во всех случаях, самым верным, надежным и горячим, а по положению своему и могущественным другом. Сколько вражда ее была ужасна и опасна, столько и дружба - я испытал это на себе многие годы - неизменна, заботлива, охранительна, иногда даже до ослепления и пристрастия. Совершенный мужчина по характеру и вкусам, частию и по занятиям, почти и по наружности, она, казалось, преднамеренно отклоняла и отвергала от себя все, имевшее вид женственности. Так и самый разговор ее вращался всегда в предметах, обыкновенно находящихся вне круга дамских бесед. Она любила говорить о серьезной литературе, о высшей администрации и политике, - более, однако, внутренней, чтобы не компрометировать случайно своего мужа, - о государственных наших людях, о действиях правительства и о новых его постановлениях, соединяя в себе, впрочем, две противоположности: беспредельную преданность не только монархическому началу, но и царственному нашему дому, с самою взыскательною оппозициею против распоряжений правительства и даже против личных действий его членов, так что великий князь Михаил Павлович, никогда не жаловавший графини, говоря о ней, называл ее в шутку: се bon monsieur de Robespierre*. При большой резкости в мнениях и приговорах графиня была большей частью основательна в, своих суждениях и чрезвычайно счастлива на меткие слова, умные наблюдения, тонкие и оригинальные замечания. Но все это она оставляла для своего тесного кружка, а в свете сохраняла редко прерываемое молчание и самое аристократическое спокойствие. Салон графини Нессельроде, после смерти соперничествовавшего с ней в этом отношении князя Кочубея, был неоспоримо первым с С.-Петербурге; попасть в него, при его исключительности, представляло трудную задачу; удержаться в нем, при разборчивости и уничижительной гордости хозяйки, было почти ещё мудренее; но кто водворился в нем, тому это служило открытым пропуском во весь высший круг".
* (Добрейший господин Робеспьер.)
В характеристике, оставленной Корфом, одна черта обращает особое внимание: вражда ее была ужасна и опасна. Эту черточку мы запомним.
После Фаллу и Корфа - слово князю П. П. Вяземскому, сыну друга Пушкина: "Графиня Нессельроде, одаренная характером независимым, непреклонная в своих убеждениях, верный и горячий друг своих друзей, руководимая личными убеждениями и порывами сердца, самовластно председательствовала в высшем слое петербургского общества и была последней гордой, могущественной представительницей того интернационального ареопага, который свои заседания имел в Сенжерменском предместье Парижа, в салоне княгини Меттерних в Вене и салоне графини Нессельроде в доме министерства иностранных дел в Петербурге. Ненависть Пушкина к этой последней представительнице космополитического олигархического ареопага едва ли не превышала ненависть его к Булгарину. Пушкин не пропускал случая клеймить эпиграмматическими выходками и анекдотами свою надменную антагонистку, едва умевшую говорить по-русски. Женщина эта паче всего не могла простить Пушкину его эпиграммы на отца ее, графа Гурьева, бывшего министром финансов в царствование императора Александра I".
После этих выспренных характеристик, грешащих одинаковым гиперболизмом, сведем графиню Марью Дмитриевну Нессельроде на землю с метафорических небес. Мы располагаем показаниями о чете Нессельроде человека, отлично знавшего высший свет и двор николаевского времени, князя П. В. Долгорукова. Его рассказы до сих пор не были введены в научный оборот.
Сначала о графе: "Карл Васильевич Нессельроде, немец происхождением и, по своим понятиям, немец старого покроя: человек ума не обширного, но ума необыкновенно хитрого и тонкого, ловкий и вкрадчивый от природы, но совершенно чуждый потребностям современным, им принимаемым за прихоть игривого воображения. Искусный пройдоха, обретший большую помощь в хитрости и ловкости своей жены-повелительницы, столь же искусной, как и он, пройдохи, и к тому же страшнейшей взяточницы, Нессельроде был отменно способным к ведению обыденных, мелких дипломатических переговоров. Но зато высшие государственные соображения были ему вовсе чуждыми: поклонник Меттерниха, он считал его за идеал ума человеческого и всегда благоговейно, слепо и неразумно преклонялся перед этим самозванным божеством политики. Впрочем, ленивый от природы, он не любил ни дел, ни переговоров; его страстью были три вещи: вкусный стол, цветы и деньги. Этот австрийский министр русских иностранных дел, Нессельроде не любил русских и считал их ни к чему не способными; зато боготворил немцев, видел в них совершенство человечества и вероятно полагал, что при сотворении мира господь-бог, уже отдохнув на седьмой день, лишь на восьмой, после отдыха и собравшись с силами, создал первого немца"... Своим возвышением Нессельроде обязан сильному придворному влиянию искусных интриганов, своих тестя и тещи, графа и графини Гурьевых (1 ком.).

Перевоз тела А. С. Пушкина из Петербурга в Святогорский монастырь. С картины А. Наумова
Дальше о графине: "женщина ума недальнего, никем не любимая и не уважаемая, взяточница, сплетница и настоящая баба-яга, но отличавшаяся необыкновенной энергией, дерзостью, нахальством и посредством этой дерзости, этого нахальства державшая в безмолвном и покорном решпекте петербургский придворный люд, люд малодушный и трусливый, всегда готовый ползать перед всякой силою, откуда бы она ни происходила, если только имеет причины страшиться от нее какой-нибудь неприятности" (2 ком).
Резким отзывам Долгорукова можно поверить, ибо в конечном счете основные черты характера графини изображены так же и в отзывах ее поклонников. Характеристика Долгорукова лучше об'ясняет резко отрицательное отношение Пушкина и к графу и к графине. Следует сказать еще и несколько слов о политических взглядах графини. Муж ее обожал Меттерниха и находился под его влиянием, она сама брала уроки политической мудрости у m-me Свечиной. Безоглядная преданность началам "Священного союза", преклонение перед самодержавием и монархом, вражда и отрицание всякого движения, в малейшей степени оппозиционного, и, конечно, стопроцентная ненависть ко всякой революции. В 1925 году мы имели удовольствие познакомиться с политическими письмами графини о событиях 14 декабря и не можем согласиться с мнением их издателя о значительности и ценности этих писем. Ни ума, ни оригинальности в них незаметно. Привычная благоговейная восторженность перед новым монархом, патриотическое подхалимство и решительная бесчеловечность к заговорщикам. "Какое это должно быть ужасное чувство - иметь в своей семье преступника! По сравнению с этими извергами приходится и смерть находить чем-то мягким"*. Для нее, так же как и для графа Бенкендорфа, Пушкин оставался un ami de quatorze, другом декабристов, скрытым революционером. Это тоже следует запомнить. Уже одной этой репутации Пушкина достаточно было для того, чтобы положить предел между ним и графиней. Он был неприемлем для нее, она - для него.
* (.......дру II; для царя были сделаны извлечения любопытных мест из всей переписки. И письма, и выборки, хранившиеся ранее в Государственном архиве, ныне хранятся в Московском историческом архиве. Я просмотрел перечень содержания всех писем и выборку и не нашел ничего, относящегося до Пушкина и до его дуальной истории. За период 1836-1837 годов писем нет. <Весьма возможно, что письма за 1836-1837 гг. были из'яты. > (Прим. Ред.).)
Но были какие-то бытовые отношения, питавшие злые против графини чувства. На их след наводит одна деталь, записанная П. И. Бартеневым со слов Нащокина. "Графиня Нессельроде, жена министра, раз без ведома Пушкина взяла жену его и повезла на небольшой (придворный) Аничковский вечер: Пушкина очень понравилась императрице. Но сам Пушкин ужасно был взбешен этим, наговорил грубостей графине и между прочим сказал: "Я не хочу, чтоб жена моя ездила туда, где я сам не бываю". Следовательно, в сближении Натальи Николаевны с двором и Николаем, которое могло только пугать Пушкина, посильную долю участия приняла и графиня Нессельроде. Значит, у Пушкина было за что ее ненавидеть.
В дуэльный период Нессельроде играла роль, на которой не останавливались до сих пор. Она судачила с Геккереном о семейных делах Пушкина, она была поверенной сердечных тайн Дантеса. Ей докладывал Геккерен о своих усилиях порвать несчастную связь своего приемного сына. Оправдываясь перед Нессельроде и цолагая, что оправдание будет доведено до сведения царя, Геккерен не назвал по имени двух высокопоставленных дам, но одна из них - графиня Нессельроде, конечно. Такое допущение доказывается и упоминанием в письме Геккерена к сыну, оказавшемся в секретном архиве III отделения*. "Ради бога, будь благоразумен, - писал Геккерен сыну, - и за этими подробностями (о внешности анонимного пасквиля) отсылай смело ко мне, потому что граф Нессельроде показал мне письмо, которое написано на бумаге такого же формата, как и эта записка. Мадам Н. и графиня София Б. тебе расскажут о многом. Они обе горячо интересуются нами". Не лишенная острой пикантности картина рисуется на основании этого письма. Вице-канцлер, министр иностранных дел, рассматривает пасквиль, жена министра может рассказать о многом в этом темном деле и горячо интересуется Геккеренами. Всякий суд по этим признакам должен был бы вызвать всех названных в письме лиц в качестве свидетелей.
* (А. С. Поляков, впервые напечатавший это письмо, почему-то полагает: первое - письмо должно защитить Геккерена от обвинений в составлении пасквиля; второе - оно было представлено Геккереном в целях самооправдания. Защитный смысл письма Поляков вывел, главным образом, из факта представления этого письма Геккереном по начальству, но как раз этот факт и не доказан, а только предположен. Мало ли какими путями III отделение могло добыть это письмо, - на то оно и III отделение! Согласимся, что письмо попало сюда помимо воли Геккерена, и тогда, перечитав его, мы не будем иметь ни права, ни возможности вывести из его содержания доказательства непричастности Геккерена к делу пасквилей. Письмо, на наш взгляд, писана после первого вызова, когда Дантес находился на дежурстве нельзя допустить, что оно писано после дуэли, когда Дантес был под арестом и когда m-me de N. и la comtesse Sophie В. вряд ли согласилась бы навещать его на гауптвахте. Геккерен в письме дает; подробное описание внешности пасквиля как будто для того, чтобы Дантес мог отличить этот пасквиль от какого-либо иного. Может быть, в руки Пушкина попал иной пасквиль! <Как указал Б. В. Казанский (в статьях "Гибель Пушкина" - "Звезда" 1928, № 1, стр. 117 и "Разработка биографии Пушкина" - "Литературное наследство" № 16-18, стр. 1141), записка Геккерена к Дантесу написана после смерти Пушкина, когда Дантес сидел под арестом на гауптвахте. Содержание записки остается непонятным. Все об'яснения Полякова, Щеголева и Казанского по меньшей мере недостаточны. > (Прим. Ред.).)
Корф определил графиню: если друг, так верный друг; если враг, то враг жестокий. Геккеренам она была верным другом. И посаженной матерью была на странном бракосочетании Дантеса, и утешительницей семьи Геккеренов в вечер и ночь после дуэли 27 января. На Мойке в доме Волконской доктора боролись со смертью за жизнь, боролись почти без надежд, а граф и графиня Нессельроде (так же как граф и графиня Строгановы) проводили вечер у барона Геккерена и оставили его дом только в час пополуночи, и когда после дуэли в отношениях высшего общества к Геккерену повеяло холодком, графиня не забывает послать пригласительный билет старому другу на званый обед. Графиня Нессельроде грудью стояла за Геккерена во время военно-судного процесса, вплоть до от'езда семьи Геккеренов. 8 апреля 1837 года кн. Вяземский сообщал А. Я. Булгакову об от'езде Геккерена из России и писал: "под конец одна графиня Нессельроде осталась при нем, но все-таки не могла вынести его, хотя и плечиста, и грудиста и брюшиста"*.
* (5.Кн. П. П. Вяземский, назв. соч., стр. 562. Надо думать, что о чете Нессельроде говорит конспиративно Геккерен в письме к Дантесу после его высылки. "Муж и жена относятся к нам безукоризненно, ухаживают за нами, как родные, даже больше того - как друзья".)
Итак, если 21 ноября 1837 года Пушкин писал графу Нессельроде (а не графу Бенкендорфу) и если он отправил свое письмо, то Нессельроде мог не дать ему движения и скрыть его от царских очей; слишком близка была прикосновенность его супруги к вражде Геккеренов с Пушкиным и к дуэльному делу.
В сочинении диплома Пушкин в первые же дни заподозрил одну даму, которую он назвал Соллогубу и которую не назвал нам Соллогуб. Не она ли? Не графиня ли Нессельроде? А через три дня по получении письма он уже знал о ближайшем участии Геккерена в составлении пасквилей, в их фабрикации. Одно не исключает другого.
А. И. Тургенев, занося в свой дневник под 1 7 февраля 1837 года всякие обстоятельства в связи со смертью Пушкина, записывает два слова: "Подозрения. Графиня Нессельроде", и только. Загадочная близость этих двух слов может дать основание к горестным размышлениям.
В 1927 году - через девяносто лет после вечно печальных событий осени и зимы 1836 - 1837 годов - было названо имя Нессельроде как автора анонимного пасквиля. В. Гольцев из записок, писанных уже в XX веке, некоего князя А. М. Голицына извлек следующую запись: "государь Александр Николаевич у себя в Зимнем дворце за столом, в ограниченном кругу лиц громко сказал: "ну, так вот теперь знают автора анонимных писем, которые были причиной смерти Пушкина: это Нессельроде ("c'est Nesselrode")". Слышал от особы, сидевшей возле государя. Соболевский подозревал, но очень нерешительно, князя П. В. Долгорукова"*. Нессельроде и Долгоруков... Одно не исключает другого.
* ("Московский пушкинист". I. М. 1927, стр. 67. "C'est Nesselrode" скорее указывает на графа Нессельроде. Досадная описка: согласимся с В. Гольцевым, что имеется в виду не граф, а графиня.)
А может быть Пушкин и не отправил по адресу сокрушительного обличения, потому ли, что уступил настояниям Жуковского, или потому, что остановился перед теми последствиями, которые могли произойти и не для одного Геккерена. Неслыханный план мести не осуществился, но чувство едкой ненависти к врагу, к Геккерену, попрежнему разрывало сердце Пушкина.
8
Еще несколько соображений в доказательство предлагаемого толкования диплома - по царственной линии.
Если бы Пушкин считал, что диплом открывал ему глаза на Дантеса, то он послал бы вызов ему, но не стал бы искать автора или составителя пасквиля в Геккерене, потому что доводы порядка - и логического и психологического - не позволили бы ему притти к заключению об участии Геккерена в фабрикации пасквиля. Конечно, всякий анонимный пасквилянт рассчитывает, что он не будет открыт, но какой смысл для Геккерена был в обращении ревнивого внимания Пушкина на своего сына, особенно после того, как из уст последнего вылетело слово о сватовстве к Катерине Гончаровой? Мрачный и мстительный характер Пушкина был известен Геккерену, и, конечно, не мог он предполагать, что Пушкин проглотит анонимную обиду, останется в пассивном положении и не обрушится на Дантеса со всей стремительностью пробужденной ревности. В интересы Геккерена входило не вызывать в памяти Пушкина летнего инцидента, а, наоборот, замять, предать забвению. Самая мысль о причастности Геккерена к фабрикации пасквиля находится в антагонизме с утверждением, что пасквиль направлен в Дантеса Геккереном.
Для всякого ясно следующее: при существующем толковании пасквиля, как намека на Дантеса, было бы уже совсем нелепо предположить, что автором или составителем его мог быть сам Дантес. Нелепость такого предположения очевидна, а между тем шеф жандармов, граф Бенкендорф, получив приказание разыскать автора, пускается на хитрость, чтобы достать русский почерк - кого же?.. Дантеса, и сравнить его с почерком пасквиля. А если Бенкендорф так сделал, то значит он видел в пасквиле намек не на Дантеса, а на особ повыше. И для него и для его суверена недопустимо дерзким было упоминание о брате августейшего монарха в сопоставлении с престарелым обер-егермейстером Нарышкиным. В их глазах уже одного этого упоминания было бы достаточно, чтобы принять диплом в том смысле, какой хотел дать ему составитель. А в таком случае и Дантес годится в обвиняемые!
Пушкин мог считать Геккерена участником фабрикации пасквиля только при принятии его как намека на Николая, а Пушкин с момента получения пасквиля и до самой смерти был крепко убежден насчет Геккерена. Следует взвесить и оценить следующее об стоятельство. История второго, январского, вызова, расследованная нами, возлагает всю вину за вторичное столкновение всецело на Дантеса и отводит Гек- керену роль сравнительно незначительную. Одураченный жених поневоле и муж по принуждению с трудом мирился с положением. Он добросовестно выполнял обязанности мужа Катерины Николаевны, но красота сестры попрежнему волновала и будила несытые желания. И что же? Пушкин шлет вызов, но кому?.. посланнику Геккерену. До Пушкина доходят слухи, что Дантес, только что оженившийся, добивается свидания с Натальей Николаевной, и Пушкин вызывает... Геккерена. 26 января он отправляет посланнику письмо - в нем он ничего не прибавляет к обвинениям, формулированным в бешеном письме, которое он прочел 21 ноября 1836 года графу В. А. Соллогубу. По фактическому содержанию письмо 26 января может быть отнесено и к ноябрю. Правда, в письме от 26 января уже не содержится тех прямых обвинений Геккерена в фабрикации анонимных писем, которые налицо в клочках разорванного черновика. Но я должен отказаться от высказанного мною на стр. 379 мнения: "важное отличие черновиков от письма указывает на то, что полной и решительной, основанной на фактах и могущей быть доказанной уверенности в авторстве Геккерена у Пушкина не было". В этом вопросе следует напирать на свидетельство кн. П. А. Вяземского в письме к вел. кн. Михаилу Павловичу: "как только были получены анонимные письма, он заподозрил в их сочинении старого Геккерена и умер с этой уверенностью. Мы так никогда и не узнали, на чем было основано это предположение, и до самой смерти Пушкина считали его недопустимым. Только неожиданный случай дал ему впоследствии некоторую долю вероятности. Но так как на этот счет не существует никаких юридических доказательств, ни даже положительных оснований, то это предположение надо отдать на суд божий, а не людской". Только, по глубокому убеждению в том, что вина за ноябрьский диплом рогоносца по царственной линии лежит всецело на Геккерене, Пушкин в январе отправил вызов не Дантесу, а Геккерену.
Сохранился след реакции Пушкина на сближение имени его жены с царем. В академическом издании "Переписки Пушкина" под № 1091 напечатан пассквиль, полученный Пушкиным 4 ноября 1836 года, и сейчас же вслед за ним под № 1092 идет письмо Пушкина к министру финансов графу Канкрину. Напомним обстоятельства, в которых Пушкин находился в это время: 4 ноября получил анонимные письма; послал вызов; в тот же день пришел к нему Геккерен, попросил отсрочки; 6 ноября Геккерен явился вновь; приехал Жуковский; все эти дни Пушкин был в поисках составителя пасквиля, находился в возбуждении, волнении и тут же нашел время писать мининстру финансов. Пушкин крайне нуждался в средствах последние годы своей жизни; скрепя сердце, он вынужден был просить у царя денег сначала на издание истории Пугачевского бунта, а потом взаймы, с погашением жалованием по службе. В 1836 году долг его равнялся 45 000 руб. И вот Пушкин пишет Канкрину о том, что он, Пушкин, "желает уплатить свой долг сполна и немедленно" и просит Канкрина принять в уплату долга отписанное ему отцом сельцо Кистенево с 220 душами. К этой просьбе он присоединяет еще одну: "Осмелюсь утрудить ваше сиятельство еще одною, важною для меня просьбою. Так как это дело весьма малозначуще и может войти в круг обыкновенного действия, то убедительнейше прошу ваше сиятельство не доводить оного до сведения государя императора, который, вероятно, по своему великодушию, не захочет таковой уплаты (хотя оная мне вовсе не тягостна), а может быть и прикажет простить мне мой долг, что поставило бы меня в весьма тяжелое и затруднительное положение: ибо я в таком случае был бы принужден отказаться от царской милости, что и может показаться неприличием, напрасной хвастливостью и даже неблагодарностью".
В сущности Пушкин не имел никакой возможности платить долг имением, потому что он уже отказался от ничтожных доходов с крепостных имений и предоставил их сестре и брату. Сколько труда положил Жуковский на то, чтобы наладить отношения Пушкина с двором, с царем, и вдруг... "желаю платить долги сполна и немедленно... не желаю, чтобы царь знал об этом, боюсь, что он прикажет простить мне долг, тогда попаду в весьма тяжелое и затруднительное положение". Ясно, случилось что-то, всколыхнувшее душу Пушкина, наполнившее ее отчаянием. Подальше от царя, от его милостей, от его денег*. Нельзя не связать этого письма к Канкрину с пасквилем, ну, а если связывать, то уж нечего еще раз повторять, что Пушкин принял намек диплома - "рогоносец по царственной линии".
* (Канкрин 21 ноября ответил, что для удовлетворения просьбы Пушкина надо испрашивать высочайшее повеление. Пушкин более не обращался по этому поводу.)
Пушкин не осуществил плана громкой компрометации Геккерена перед царем. По всему видно, что о ноябрьской истории Николай не получил от своих приближенных полной информации, не знал содержания пасквиля: и он считал, как все, что неловкое положение у Дантеса с Пушкиным должно кончиться дуэлью, и он, как все, думал, что после женитьбы Дантеса дело заглушено, и уж ему никак не могло притти в голову, что и он замешан в этой истории. Но произошла дуэль, и Николай потребовал полной информации по делу Пушкина: дело докладывалось ему и графом Бенкендорфом по III отделению и графом Нессельроде по министерству иностранных дел. Доклад последнего состоялся 28 января: в этот день Геккерен послал Нессельроде документы, относившиеся "до того несчастного происшествия, которое граф благоволил лично повергнуть на благоусмотрение его императорского величества".
Эти документы должны были, по мнению Геккерена, убедить и царя и министра в том, что он, Геккерен, не мог поступить иначе. Через день, 30 января, Геккерен, досылая Нессельроде документ, которого нехватало, просил его "умолить государя уполномочить его прислать ему в нескольких строках оправдание его поведения, чтобы он мог чувствовать себя вправе оставаться при русском дворе, ибо он был бы в отчаянии покинуть его". В этот же день Геккерен писал своему министру в Гаагу; он излагал обстоятельства дела, сообщал, что он получает знаки внимания и сочувствия от всего петербургского общества, и заверял, будто император, сообщая роковую весть о смерти Пушкина императрице, выразил уверенность, что барон Геккерен не мог поступить иначе. Геккерен и не помышлял еще о возможных для него лично следствиях этого дела. Но прошло всего два дня, и Геккерен 2 февраля уже направляет к наследнику престола, принцу Оранскому, мужу сестры Николая, просьбу поддержать перед королем его ходатайство о переводе его из Петербурга. За эти несколько дней царь составил определенное мнение о роли Геккерена, и, конечно, Геккерен узнал это мнение от своего благожелателя графа Нессельроде.
Дипломат, бывший долгое время на лучшем счету у петербургского правительства, сразу стал "канальей" в глазах царя. Этого "каналью" Николай не желал больше терпеть при своем дворе; никакие его оправдания и документы ему были ненужны, и он сразу же решил выгнать его вон из Петербурга. 3 февраля Николай написал два письма: одно брату Михаилу, который был в это время в Риме, другое сестре Анне в Гаагу. Изложив кратко историю дуэли, Николай писал брату: "Пушкин погиб и, слава богу, умер христианином. Это происшествие возбудило тьму толков, наибольшею частью самых глупых, из коих одно порицание поведения Геккерена справедливо и заслуженно; он точно вел себя, как гнусная каналья" Сам сводничал Дантесу в отсутствие Пушкина, уговаривая жену его отдаться Дантесу, который будто к ней умирал любовью, и все это тогда открылось, когда после первого вызова на дуэль Дантеса Пушкиным Дантес вдруг посватался на сестре Пушкиной; тогда жена Пушкина открыла мужу всю гнусность поведения обоих, был во всем совершенно невинна*. Так как сестра ее точно любила Дантеса, то Пушкин тогда же и отказался от дуэли. Но должно ему было при том и оставаться, чего не вытерпел. Дантес - под судом, ровно как и Данзас, секундант Пушкина, и кончится по законам, и, кажется, каналья Геккерен отсюда выбудет".
* (Отметим, что в этом кратком изложении истории дуэли Николай говорит очень много о невинности Натальи Николаевны. Любопытно и то, что Николай писал свое письмо, как будто имея перед своими глазами письмо Пушкина к Геккерену от 26 января. "Вы говорили, что он умирает от любви к ней, вы ей бормотали "отдайте мне моего сына" - в письме Пушкина; "Уговаривал жену его отдаться Дантесу, который будто к ней умирал любовью" - в письме Николая.)
А сестре он писал: "Пожалуйста, скажи Вильгельму (мужу, принцу Оранскому), что я обнимаю его и на этих днях пишу ему, мне надо много сообщить ему об одном трагическом событии, которое положило конец жизни знаменитого Пушкина, поэта; но это не терпит почты". Действительно, письмо принцу Оранскому было отправлено с курьером 22 февраля 1837 года, но, несмотря на неоднократные обращения к нидерландскому правительству с просьбами о розыске этого письма, в котором Николай требует отозвания посланника и несомненно излагает поведение Геккерена, письмо не было найдено. По справке голландского министерства иностранных дел, его не оказалось ни в архиве королевского дома, ни в архиве кабинета королевы. Будем надеяться, что письмо цело и лежит на своем месте; и в департаменте полиции в свое время мне ответили, что никаких материалов о дуэли и смерти в архиве III отделения не имеется. Оказывается, нужна была революция, чтобы открыть секретный архив этого учреждения и обнаружить в нем пачку с искомыми материалами.
Николай порвал все отношения с Геккереном. Когда Геккерен покидал Россию, официально уезжая в отпуск, он попросил аудиенции. Царь приказал Нессельроде передать Геккерену, что он желает избежать об'яснений, которые могут быть только тягостными. В знак же благоволения Николай выслал Геккерену, точно жалкому просителю, в прихожую дворца, бриллиантовую табакерку, и Геккерен принял ее, а дипломаты - коллеги Геккерена - раз'ясняют смысл подарка: "табакерку, по установившемуся при императорском дворе обычаю, дарят послам, покидающим свой пост окончательно, из чего явствует, что император не пожелал видеть его здесь долее, и что его сюда не ждут".
Баварский посланник делает любопытные и значительные для нашей точки зрения пояснения: "присылка табакерки вместе с отказом в обычной аудиенции явилась настоящим ударом для Геккерена, вызванным какой-нибудь особой причиною, что император по всей вероятности и об'яснит королю Голландии"*.
* (Перемена в отношениях царя к посланнику повлекла за бой и охлаждение к последнему высшего общества: барон Геккерен, по сообщению Гогенлое-Кирхберга, сделал все, чтобы навлечь на себя всеобщее неудовольствие, и многие лица, в былые времена отличавшие посланника, принуждены в настоящее время сожалеть об этом.)
По характеру и по силе реакции Николая на ознакомление с делом Пушкина во всех подробностях можно заключить, что не бесчестие, нанесенное Пушкину, взволновало царя. Из-за Пушкина Николай не пошел бы на такие крутые меры; царь не любил поэта, относился к нему на всем протяжении их личного знакомства - с 1826 года - с подозрительным недружелюбием; не любил как человека, не ценил как писателя. Только благодаря неимоверным стараниям друзей Пушкина, и прежде всего Жуковского, Николаю была создана репутация хранителя русской национальной славы в лице Пушкина, благожелательного опекуна, отечески любившего своего верноподданного поэта. В практических целях друзья укрепляли эту репутацию, но про себя-то они знали цену царской любви. 9 ноября 1843 года в парижском ресторане А. И. Тургенев встретился с д'Арншаком, разговорился о Петербурге, о Пушкине и стыдливо записал, придя домой, в своем дневнике: "государь не любил Пушкина".
А если Николай учинил Геккерену бесчестие в масштабе европейском, то сделал он это потому, что почувствовал себя оскорбленным. Он видел, что пасквиль задевает его, и кроме того знал из источников, нам неизвестных, что причастен к фабрикации пасквиля барон Геккерен. Только при допущении этих положений нам будет понятна реакция Николая. А на самом деле, разве не каналья этот голландский посланник! Царь, как офицеришка, еще только ездил мимо окон, на окнах даже шторы опущены, а его уже сравнивают с братом Александром, который тринадцать лет жил с Нарышкиной. Каналья вмещался не в свои дела и каналья выбудет из Петербурга!

Святогорский монастырь. Могила Пушкина. С литографии Александрова, сделанной в Пскове в 1837 году. Собственность Пушкинского Дома
У одного из наиболее осведомленных о деле Пушкина дипломатов, виртембергского посланника князя Гогенлое-Кирхберга, женатого на русской, бывавшего у Вяземских и принимавшего к себе и Вяземских, и Тургенева, и других приятелей Пушкина, в донесении своему правительству есть любопытное сообщение: "об анонимных письмах существует два мнения. В обществе наибольшим доверием пользуется мнение, приписывающее их О. (Ouvarow - Уваров); мнение правительства (du pouvoir), основывающееся на тожественности пунктуации, на особенностях почерка и на сходстве бумаги, инкриминирует их Н. (конечно, Heeckeren). Да, мнение правительства было такое, вернее, мнение царя. Любопытно, что когда воля царя была сообщена Геккерену, когда вопрос об его отозвании был решен, он пишет) марта 1837 года графу Нессельроде письмо - оправдание против обвинений, которые, как он знал, конечно, со слов Нессельроде, царь пред'являет против него. Их было два обвинения - в сводничестве и в авторстве анонимных писем. Оправдание против последнего обвинения Геккерен начинает так, как начал бы всякий уважающий себя человек: "никто не думает, чтобы я снизошел до оправданий", но, оставляя сразу эту позицию, он переходит к оправданиям и основывает их на раз'яснении, что анонимные письма - не в интересах ни его, ни сына. Совершенно правильно, если согласиться не видеть, замолчать намек на Николая и заменить его намеком на Дантеса. А затем Геккерен упирает на невозможный, неслыханный характер письма Пушкина к нему. Этот характер признавали все - и царь в том числе, но царь в письме к Михаилу Павловичу зато и писал: "последнего повода к дуэли, заключавшегося в самом дерзком письме Пушкина к Геккерену, никто не постигает".
Итак, Пушкин и Николай сошлись во взглядах на Геккерена и поняли смысл пасквиля. Их заключение по делу представляется наиболее авторитетным - пасквиль кивал на царя, и ближайшее прикосновение к нему имел барон Геккерен. А ближайшие друзья Пушкина изо всех сил бились, доказывая, что все дело пошло, продолжалось и кончилось все из-за дерзких ухаживаний Дантеса за женой Пушкина, и в то же время они твердили о тайне в деле Пушкина*. "О том, что было причиной этой кровавой и страшной развязки, говорить много нечего. Многое осталось в этом деле темным и таинственным для нас самих"... Или: "адские козни окутали Пушкиных и остаются еще под мраком". Так писал кн. П. А. Вяземский Д. В. Давыдову. Тайной и была прикосновенность к этому делу Николая Павловича Романова, но друзья Пушкина и мечтать не смели о том, чтобы приоткрыть хоть уголок такой тайны. Понятно, они укрывали тайну не только по соображениям об общеопасности такого открытия, но еще во имя охранения чести Натальи Николаевны - и в этом они успели**.
* (Новое толкование пасквиля в печати впервые было заявлено мной в очерке "Смерть Пушкина" в номере журнала "Огонек", посвященном Пушкинскому дню, № 7 (203), 13 февраля 1927 года. К одинаковому со мной мнению одновременно, но независимо от моих изысканий, пришел и П. Е. Рейнбот; его взгляд прокламировал и поддерживал М. А. Цявловский в своем докладе на Пушкинском вечере в феврале месяце 1927 г. в день годовщины смерти, в Москве.)
** (А. И. Тургенев ноябрь 1836 года проводил в Москве, в Петербург он приехал только 25 ноября, но в Москве он уже слышал об анонимных письмах. В письме к брату после смерти Пушкина он дал такое определение диплому: "в анонимном письме говорили, что он после Нарышкина первый рогоносец". Очевидно, Н. И. Тургенев должен был понять значение термина "первый после Нарышкина рогоносец". ("Пушкин и его современники", вып. VI, стр. 59.).)
9
Барон Геккерен был не один в гнусном деле. От него тянулись нити в разные стороны. Одна из них приводила в салон m-me Нессельроде, к двум высокопоставленным дамам, имевшим сомнительную честь быть поверенными его интимных рассказов. В доме Нессельроде Геккерен прижился, был как свой: пользовался покровительством графа и графини Нессельроде. Но в городе репутация барона была незавидна. Граф Гогенлое-Кирхберг в своем донесении прямо говорит, что в последние годы к Геккерену относились хуже, и многие избегали знакомства с ним. Геккерен был окружен аристократической молодежью, с которой он был в отношениях неестественной интимности. Вспомним, как определил князь А. В. Трубецкой одну из "шалостей" Дантеса: "не знаю, как сказать: он ли жил с Дантесом или Геккерен жил с ним... В то время в высшем обществе было развито бугрство". К кругу молодых "астов", шаливших вместе с Геккереном, тянется другая нить в этом деле. Здесь Геккерен мог найти и нашел физических исполнителей своих замыслов.
Вопрос о том, кто писал диплом своей собственной рукой и кто разослал его Пушкину и его знакомым, остается невыясненным и по сей день. С наибольшим упорством молва называла три имени: князя И. С. Гагарина, князя П. В. Долгорукова и графа С. С. Уварова*. Эти имена стали произносить в первые же дни после смерти Пушкина. А. И. Тургенев записал в дневнике под 30 января 1837 года: "Вечер у Карамзиной. О князе Иване Гагарине". Под 31 января: "Обедал у Карамзиной. Спор о Геккерене и Пушкине. Подозрения опять на К. И. Г." (т. е. на князя И. Гагарина). Так как князь И. С. Гагарин жил вместе с князем П. В. Долгоруковым, то, естественно, подозрение распространилось и на него. Н. М. Смирнов, муж А. О. Смирновой, в 1842 году, т. е. через пять лет после событий, изложил в своем дневнике взгляд на происхождение и распространение подметного пасквиля, - взгляд, очевидно, принятый в светских кругах, сочувствовавших Пушкину: "Весьма правдоподобно, что Геккерен был виновником сих писем с целью поссорить Дантеса с Пушкиным и, отвлекши его от продолжения знакомства с Натальей Николаевной, - исцелить его от любви и женить на другой. Подозрение также падало на двух молодых людей - кн. Петра Долгорукого и кн. Гагарина, особенно на последнего. Оба князя были дружны с Геккереном и следовали его примеру, распуская сплетни. Подозрение подтверждалось адресом на письме, полученном К. О. Россетом: на нем подробно описан был не только дом его жительства, куда повернуть, взойдя на двор, по какой итти лестнице и какая дверь его квартиры. Сии подробности, неизвестные Геккерену, могли только знать эти два молодые человека, часто посещавшие Россета, и подозрение, что кн. Гагарин был помощником в сем деле, подкрепилось еще тем, что он был очень мало знаком с Пушкиным и казался очень убитым тайною грустью после смерти Пушкина. Впрочем, участие, им принятое в пасквиле, не было доказано, и только одно не подлежит сомнению, - это то, что Геккерен был их сочинитель". О круге Геккерена выпуклые воспоминания сохранились у князя Вяземского: "Старик Геккерен был известен своим распутством. Он окружал себя молодыми людьми наглого разврата и охотниками до любовных сплетен и всяческих интриг по этой части, в числе их находились князь П. В. Долгоруков и граф Л. С."**. На членах этой геккереновской стаи мы и остановились.
* (В дальнейшем изложении я совершенно не останавливают на выяснении прикосновенности графа С. С. Уварова к составлению и распространению пасквиля - в уверенности, что П. Е. Рейнбот напечатает читанный им 28 июля 1927 года в собрании Пушкинского Дома доклад на тему: "Дуэль Пушкина (Идалия Григорьевна Полетика, Варфоломей Филиппович Боголюбов, Сергей Семенович Уваров)". Уваров, конечно, мог сочувствовать и покровительствовать распространению пасквилей, поражающих честь своего врага Пушкина.)
** ("Русский архив", 1888, II, стр. 312. Граф Л. С. - конечно Лев Соллогуб, брат Владимира. )
Обвинения князя И. С. Гагарина и князя П. В. Долгорукова были оглашены в печати впервые в 1863 году в брошюре Аммосова "Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина"*. Аммосов писал со слов К. К. Данзаса следующее:
* (О князе И. С. Гагарине см. биографическую статью Пирлинга в "Русском биографическом словаре"; о князе П. В. Долгорукове см. статьи М. К. Лемке "Князь П. В. Долгоруков в России" ("Былое", 1907, февраль, и в его нниге "Николаевские жандармы и литература 1826-1955 годов". СПБ, 1908) и "Князь П. В. Долгоруков-эмигрант" (там же, март) и статью Б. Л. Модзалевского в книге "Новые материалы...", стр. 13 - 48.)
"Автором пасквилей, по сходству почерка, Пушкин подозревал Геккерена-отца и даже писал об этом графу Бенкендорфу. После смерти Пушкина многие в этом подозревали князя Гагарина; теперь же подозрение это осталось за жившим тогда вместе с ним князем Петром Владимировичем Долгоруковым.
Поводом к подозрению князя Гагарина в авторстве безымянных писем послужило то, что они были писаны на бумаге, одинакового формата с бумагою князя Гагарина. Но, будучи уже за границей, Гагарин признался, что записки были писаны действительно на его бумаге, но только не им, а князем Петром Владимировичем Долгоруковым.
Мы не думаем, чтобы это признание сколько-нибудь оправдывало Гагарина - позор соучастия в этом грязном деле, соучастия, если не деятельного, то пассивного, заключающегося в знании и допущении, - остался все-таки за ним".
Заявления Аммосова были перепечатаны во многих русских журналах и газетах и нашли широкое распространение как в России, так и за границей*. Обвиняемые были в то время живы: князь Иван Сергеевич Гагарин, принявший католичество еще в 1842 году, был священником иезуитского ордена, а князь Петр Владимирович Долгоруков, самовольно и тайно оставивший отечество в 1859 году, был эмигрантом совершенно особенного типа и вел жестокую литературную войну с сановниками русского правительства. И тот и другой не оставили без ответа позорившие их сообщения Данзаса.
* (В русской журналистике, кажется, один лишь М. Н. Лонгинов не только отнесся с недоверчивостью к рассказу Аммосова, но высказал ему порицание за пред'явление подобного обвинения без всяких доказательств. (См. отзыв М. Н. Лонгинова о книжке Аммосова в "Современных известиях", 1863, № 18, стр. 12).)
Первым отозвался князь П. В. Долгоруков. Он напечатал в герценовском "Колоколе" (1863 г., №.168 от 1 августа) и в своем журнальчике "Листок" (1863 г., № 10) письмо в редакцию "Современника", повторившего на своих страницах в рецензии на книжку Аммосова его заявления. Это письмо появилось затем и в сентябрьской книжке "Современника" за 1863 год, с исключением одной фразы, выброшенной цензурой. Приводим полностью это письмо, содержащее кое-какие любопытные фактические данные.
"М. Г. В июньской книге вашего журнала прочел я разбор книжки г. Аммосова: "Последние дни жизни А. С. Пушкина", и увидел, что г. Аммосов позволяет себе обвинять меня в составлении подметных писем в ноябре 1836 г., а князя И. С. Гагарина - в соучастии в таком гнусном деле, и уверяет, что Гагарин, будучи за границею, признался в том.
Это клевета и только: клевета и на Гагарина и на меня. Гагарин не мог признаться в том, чего никогда не бывало, и он никогда не говорил подобной вещи, потому что Гагарин человек честный и благородный и лгать не будет. Мы с ним соединены с самого детства узами теснейшей дружбы, неоднократно беседовали о катастрофе, положившей столь преждевременный конец поприщу нашего великого поэта, и всегда сожалели, что не могли узнать имен лиц, писавших подметные письма.
Г. Аммосов говорит, что писал свою книжку со слов К. К. Данзаса. Я не могу верить, чтобы г. Данзас обвинял Гагарина или меня. Я познакомился с г. Данзасом в 1840 г., через три года после смерти его знаменитого друга, и знакомство наше продолжалось до выезда моего из России, в 1859 г., т. е. 19 лет. Г. Данзас не стал бы знакомиться с убийцею Пушкина и не он, конечно, подучил г. Аммосова напечатать эту клевету.
Г. Аммосову неизвестно, что Гагарин и я, после смерти Пушкина, находились в дружеских сношениях с людьми, бывшими наиболее близкими к Пушкину; г. Аммосову неизвестно, что я находился в дружеских сношениях с друзьями Пушкина: гр. М. Ю. Виельгорским, гр. А. Строгановым, кн. А. М. Горчаковым, кн. П. А. Вяземским, П. А. Валуевым; с первыми двумя до самой кончины их, с тремя последними до выезда моего из России в 1859 году. Г. Аммосову неизвестно, что уже после смерти Пушкина я познакомился с его отцом, с его родным братом и находился в знакомстве с ними до самой смерти их.
Начальнику III отделения, по официальному положению его, лучше других известны общественные тайны. Л. В. Дубельт (младший сын его женат на дочери великого поэта) никогда не обвинял ни Гагарина, ни меня по делу Пушкина. Когда в 1843 году я был арестован и сослан в Вятку, в предложенных мне вопросных пунктах не было ни единого намека на подметные письма.
С негодованием отвергаю, как клевету, всякое обвинение как меня, так и Гагарина в каком бы то ни было соучастии в составлении или распространении подметных писем. Гагарин, ныне находящийся в Бейруте, в Сирии, вероятно, сам напишет вам то же. Но обвинение - и какое ужасное обвинение! - напечатано было в "Современнике" и долг чести предписывает русской цензуре разрешить напечатание этого письма моего*. Прося вас поместить его в ближайшей книге "Современника", имею честь быть, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою.
* (Строки, напечатанные разрядкой, цензурой были исключены.)

Князь Петр Долгоруков
Оправдание князя Ивана Гагарина появилось в № 154 "Биржевых ведомостей" за 1865 год и было ответом на помещенную в № 102 этой газеты статью, которая в свою очередь была заимствована из "Русского архива". В "Русском архиве" этого года был помещен отрывок "Из воспоминаний графа В. А. Соллогуба". Сообщив со слов Дантеса о том, что документы, поясняющие смерть Пушкина, целы и находятся в Париже и среди них диплом, написанный поддельной рукой, граф Соллогуб высказал предположение: "Стоит только экспертам исследовать почерк, и имя настоящего убийцы Пушкина сделается известным на вечное презрение всему русскому народу. Это имя вертится у меня на языке, но пусть его отыщет и назовет не достоверная догадка, а божие правосудие!"
Граф Соллогуб не назвал этого имени, но редактор "Русского архива" П. И. Бартенев в примечании к этому месту процитировал приведенное нами выше заявление Аммосова. Князь И. С. Гагарин опубликовал любопытнейшее письмо, которое мы и приводим без изменений. Упоминаемые в письме его лица обозначены инициалами, которые раскрыты (вполне верно) Бартеневым, перепечатавшим письмо Гагарина в "Русском архиве" (1865, изд. 2-е, стр. 1242-1246).
"В № 102 "Биржевых ведомостей" помещена статья, в которой, по поводу безымянных писем, причинивших смерть Пушкина, приводится мое имя. Статья эта меня огорчила, и невозможно мне ее пропустить без ответа. В этом темном деле, мне кажется, прямых доказательств быть не может. Остается только честному человеку дать свое честное слово. Поэтому я торжественно утверждаю и об'являю, что я этих писем не писал, что в этом деле я никакого участия не имел; кто эти письма писал, я никогда не знал и до сих пор не знаю. Чтобы устранить все недоразумения и все недомолвки, мне кажется нужным войти в некоторые подробности. В то время, как случилась вся эта история, кончившаяся смертью Пушкина, я был в Петербурге и жил в кругу, к которому принадлежали и Пушкин, и Дантес, и я с ними почти ежедневно имел случай видеться. С Пушкиным я был в хороших сношениях; я высоко ценил его гениальный талант и никакой причины вражды к нему не имел. Обстоятельства, которые дали повод к безымянным письмам, происходили под моими глазами, но я никаким образом к ним не был примешан, о письмах я не знал и никакого понятия о них не имел. Первый человек, который мне о них говорил, был К. О. Р.*. В то время я жил на одной квартире с кн. П. В. Д.** на Миллионной. С Д. я также с самого малолетнего возраста был знаком. Бабушка его княгиня Д.*** и особенно тетушка его М. П. К.**** были в дружной и тесной связи с моей матушкой. Мы в Москве очень часто видались, потом Д. отправлен был в Петербург в Пажеский корпус. Я потерял его из виду и встретился с ним опять в Петербурге в 1835 или 1836 году. Мы наняли вместе одну квартиру. Однажды мы обедали дома вдвоем, как приходит Р. При людях он ничего не сказал, но как мы встали из-за стола и перешли в другую комнату, он вынул из кармана безымянное письмо на имя Пушкина, которое было ему прислано запечатанное под конвертом на его (Р) имя. Дело ему показалось подозрительным, он решился распечатать письмо и нашел известный пасквиль. Тогда начался разговор между нами; мы толковали, кто мог написать пасквиль, с какою целию, какие могут быть от этого Последствия. Подробностей этого разговора я теперь припомнить не могу; одно только знаю, что наши подозрения ни на ком не остановились и мы остались в неведении. Тут я имел в руках это письмо и рассматривал. Другого экземпляра мне никогда не приходилось видеть. Сколько я могу припомнить, Р. нам сказал, что этот конверт он получил накануне.
* (Конечно, Клементий Осипович Россет.)
** (Князь Пётр Владимирович Долгоруков. В "Адресной книге на 1837 год" Карла Нистрема жительство кн. Гагарина показано в Галерной улице, дом 34, а жительство Долгорукова - в Большой Миллионной, дом 20.)
*** (Кн. Анастасия Симоновна Долгорукова, умерла 7 апреля .827 года.)
**** (Тетка Долгорукова, кн. Марья Петровна, замужем за Н П. Римским-Корсаковым, умерла в 1849 году.)
Несколько времени после того, однажды утром, в канцелярии Министерства иностранных дел я услышал от графа Д. К. Н.*, что Пушкин накануне дрался с Дантесом и что он тяжело ранен. В тот же день я отправился к Пушкину и к Дантесу; у Пушкина не принимали; Дантеса я видел легко раненого, лежавшего на креслах.
* (Граф Дмитрий Карлович Нессельроде, сын министра.)
В то время было в Петербурге много толков о безымянных письмах; многие подозревали барона Геккерена-отца; эти подозрения тогда, как и теперь, мне казались чрезвычайно нелепыми. Я и не воображал, что меня также подозревали в этом деле. Прошло несколько лет; я провел эти годы в Лондоне, в Париже и в Петербурге. В Париже я часто видался со многими русскими; в Петербурге я везде бывал и почти ежедневно встречался с Л.*, и во все это время помину не было о моем мнимом участии в этом темном деле. В 1843 году я оставил свет и поступил в новициат ордена иезуитов, в ахеоланскую обитель (L'acheul), где и оставался до сенятбря 1845 года. В ахеоланской обители меня навестил А. И. Т.**, мы долго с ним разговаривали про былое время. Он мне тут впервые признался, что он имел на меня подозрение в деле этих писем, и рассказывал, как это подозрение рассеялось. На похоронах Пушкина он с меня глаз не сводил, желая удостовериться, не покажу ли я на лице каких-нибудь знаков смущения или угрызения совести, особенно пристально смотрел он на меня, когда пришлось подходить ко гробу - прощаться с покойником. Он ждал этой минуты: если я спокойно подойду, то подозрения его исчезнут; если же я не подойду или покажу смущение, он увидит в этом доказательство, что я действительно виноват. Все это он мне рассказывал в ахеоланской обители и прибавил, что, увидевши, с каким спокойствием я подошел к покойнику и целовал его, все его подозрения исчезли. Я тут ему дружески приметил, что он мог бы жестоко ошибиться. Могло бы случиться, что я имел бы отвращение от мертвецов и не подошел бы ко гробу. Подходить я никакой обязанности не имел, - не все подходили, и он тогда бы очень напрасно остался убежденным, что я виноват.
* (Бартенев относит с вопросом инициал к Лермонтову.)
** (Aлександр Иванович Тургенев.)
После этого несколько раз до меня доходили слухи, что тот или другой человек меня подозревал в том же деле. Я, признаюсь, не обращал на эти подозрения никакого внимания. С одной стороны, я так твердо убежден был в моей невинности, что эти слухи не делали на меня впечатления. С другой стороны, так много людей не могли себе об'яснить, почему я оставил свет и сделался иноком. Стали выдумывать небывалые причины. Иные предполагали, не знаю, какой, роман, любовь, отчаяние и бог весть что такое. Другие полагали, что я непременно совершил какое-нибудь преступление, а как за мною никакого преступления не знали, то стали поговаривать: "а может быть он написал безымянные письма против Пушкина?"
Пушкин убит в феврале 1837 года, если я не ошибаюсь; я вступил в орден иезуитов в августе 1843 г.- слишком шесть лет спустя: в продолжение этих шести лет никто не приметил за мной никакого отчаяния, даже никакой грусти, и, сколько я знаю, никто не останавливался на мысли, что я эти письма писал; не как я сделался иезуитом, тут и стали про это говорить.
Несколько лет тому назад один старинный мой знакомый приехал в Париж из России и стал опять меня расспрашивать про это дело; я ему сказал, что я знал, и как я знал. Разговор пал на бумагу, на которой был писан пасквиль; я действительно приметил, что письмо, показанное мне К. О. Р., было писано на бумаге, подобной той, которую я употреблял. Но это ровно ничего не значит; на этой бумаге не было никаких особенных знаков, ни герба, ни литер. Эту бумагу не нарочно для меня делали; я ее покупал, сколько могу припомнить, в английском магазине, и вероятно половина Петербурга покупала тут бумагу.
Кажется, к этим об'яснениям насчет моего мнимого участия в безымянных письмах более ничего прибавлять не нужно. Но не могу умолчать о кн. Д. Конечно, он в моей защите не нуждается и сам себя защищать может. Одно только я хочу сказать. Как видно из предыдущего, во время несчастной этой истории я с ним на одной квартире жил, - следовательно, если бы были против него какие-нибудь улики или доказательства, никто лучше меня не мог бы их приметить. Поэтому я почитаю долгом об'явить, что никаких такого рода улик или доказательств я не приветил. Примите уверение и т. д.
Ивана Гагарина, священника общества Иисусова".
В указаниях князя Гагарина мы не находим никаких противоречий. Ссылка на А. И. Тургенева находит подтверждение в его дневниках и письмах к кн. П. А. Вяземскому. В дневниках немало упоминаний о князе Гагарине самого дружественного характера; в особенности их много в 1838 году, когда Тургенев жил в Париже и чуть не ежедневно встречался с князем И. С. Гагариным. Вместе с ним Тургенев посещал лекции в Сорбонне. 14 марта 1838 года Тургенев сообщал князю П. А. Вяземскому: "я часто вижу кн. Ивана Сергеевича Гагарина: он, кажется, опять стал тем же, каким я знавал его в Мюнхене, где он мне очень нравился. Не чуждаясь света, он заглядывает в книги и любит салоны Свечиной и ей подобных". Хорошее впечатление с течением времени только усиливалось. Так, 9 апреля 1838 года Тургенев писал опять Вяземскому: "я часто видаюсь здесь с кн. Иваном Гагариным. Он попал в первоклассное fashionables*. и имеет на то полное право: богат, умен, любезен и любопытен".
* (Светское общество)
Гагарин принадлежал к "кружку 16": участники сходились по вечерам и вели беседы, так, как будто бы III отделения не существовало. Среди "16-ти" были Ю. Ф. Самарин, гр. Андрей Шувалов, А. А. Столыпин (лермонтовский Монго), сам М. Ю. Лермонтов, граф П. А. Валуев, барон Д. П. Фредерике, кн. С. Н. Долгоруков, кн. А. Н. Долгоруков и др. Все это были люди весьма молодые и весьма аристократического происхождения.
Ничто не предвещало того духовного переворота, который через четыре года привел Гагарина в католическую церковь, на лоно братьев иезуитского ордена. Православные друзья Гагарина были ошеломлены известием об обращении Гагарина: Самарин вступил с ним в полемическую переписку на тему о сравнительном достоинстве христианских религий, Тургенев тоже попытался уяснить причины перехода, и с этой именно целью он навестил Гагарина в ахеоланской обители. Об этом посещении и упоминает Гагарин в своем письме. Тургенев посетил Гагарина два раза - 27 й 28 сентября 1844 года. Через три дня он сообщил К. С. Сербиновичу: "Я был два раза в l'Acheul спорил с послушником Иваном Ксаверием: но об этом более после; не он во всем виноват, а мы, т. е. вы, я, Филарет, Муравьев и весь летаргизм нашего православия: опять: "sapienti sat"*. Дайте всем верить и думать".
* (Умному достаточно.)
В дневнике Тургенев записал, конечно, посещения. 27 сентября был лишь незначительный разговор, и свидание было условлено на следующий день. Вот запись 28 сентября, в которой по неразборчивости почерка не удалось прочесть несколько слов: "в 7 часов St. Acheul, Гагарин уже ожидал меня, приготовил комнату, камин, шоколад и кофе. Сам спит с другими в зале. Исповедь его ( Мысли мои при сем случае. Гагарин о Криднер и Бенкендорф, кажется, намекал, что желает обратить его!! о богородице, о Шеллинге, коему сказал поручение. Об отце и матери: слезы навертывались. О надеждах для России. Книги Филарета и Муравьева решили его. Равиньян, беседа и советы его. Свечина отговаривала вдруг. Опасение, что знать будут. Нельзя исповедаться в Россиикат. свящ. всё иезуитские извинения, но чистосердечны). Мое участие в его прениях с самим собою. Самарин знал, что католик, и в России сам плакал. Боборыкина вопрос: не отрекся, но отмолчался. Обещал ему книгу Самарина и друг. В 9 часов простились. Усадил меня..." Тургенев в своей записи и не заикнулся о разговоре, который произошел между ним и Гагариным о Пушкине и анонимных письмах. Молчание не значит, что Гагарин облыжно упомянул о беседе, а может означать только то, что Тургенев не счел даже нужным отметить этот разговор: он показался Тургеневу ничтожным по своим результатам, и, очевидно, у него не было ни капли сомнения в непричастности Гагарина к пасквильному делу.
Неназванный Гагариным старинный знакомый, с которым он беседовал об анонимных письмах, это - друг Пушкина С. А. Соболевский. Он тоже оставил рассказ о беседе с Гагариным в письме к князю С. М. Воронцову: "Вам известно, что в свое время предполагали, что этот поступок (составление пасквиля) совершил Гагарин и что угрызения совести в этом поступке заставили последнего сделаться католиком и иезуитом; вам известно также, что главнейший повод к такому предположению дала бумага, подобную которой, как утверждали, видали у Гагарина. С своей стороны я слишком люблю и уважаю Гагарина, чтобы иметь на него хотя бы малейшее подозрение; впрочем, в прошедшем году я самым решительным образом расспрашивал его об этом; отвечая мне, он даже и не думал оправдывать в этом себя, уверенный в своей невинности; но, оправдывая Долгорукова в этом деле, он рассказал мне о многих фактах, которые показались мне скорее доказывающими виновность этого последнего, чем что-либо другое. Во всяком случае оказывается, что Долгоруков жил тогда вместе с Гагариным, что он прекрасно мог воспользоваться бумагою последнего и что поэтому главнейшее основание направленных против него подозрений могло пасть на него, Гагарина".
Трудно было бы допустить вообще легкость и интимность общения, если бы А. И. Тургенев питал хоть сколько-нибудь основательное подозрение на князя И. С. Гагарина. Значит, подозрение, возникшее было, действительно рассеялось у А. И. Тургенева в момент похорон, но как же оно было неосновательно, раз для его рассеяния достаточно было одного мимолетного впечатления!
Нам известен еще один собеседник Гагарина на тему об анонимных письмах.
Н. С. Лескову принадлежит интереснейший рассказ об его беседах с Гагариным по этому вопросу*. Свои выводы Лесков резюмирует следующим образом: "Из встреч и бесед с Гагариным у меня сложилось убеждение: 1) что дело смерти Пушкина тяготило и мучило Гагарина ужасно; 2) что он почитал себя жестоко оклеветанным; 3) что опровержений своих он не почитал достаточно сильными для ниспровержения всей этой клеветы, и 4) что он был убежден в существовании более сильного и неопровержимого доказательства его правоты, каковое доказательство и есть во Франции.... Характер и судьба И. С. Гагарина чрезвычайно драматичны, и всякий честный человек должен быть крайне осторожен в своих о нем догадках. Этого требуют и справедливость и милосердие". К этим словам нелишнее присоединить и следующую характеристику Гагарина, оставленную Лесковым: "Гагарин совсем не отвечал общепринятому вульгарному представлению об иезуитах. В Гагарине до конца жизни неизгладимо сохранилось много русского простодушия и барственности, соединенной с тою особою кадетскою легкомысленностью, которую часто можно замечать во многих русских великосветских людях... Гагарин был положительно добр, очень восприимчив и чувствителен. Он был хорошо образован и имел нежное сердце... Он не был ни хитрец, ни человек скрытный и выдержанный, что можно было заключить по тому, как относились к нему некоторые из лиц его братства, в котором он, по чьему-то удачному выражению, не состоял иезуитом, а при них содержался".
* ("Иезуит Гагарин в деле Пушкина" - "Исторический вестник" , 1886, август, стр. 269-273.)
Психологическая трудность усвоения пасквиля князю Гагарину бросается в глаза при чтении опубликованных писем князя И. С. Гагарина к Ф. И. Тютчеву от 1836 года. Гагарин в 1833 - 1835 годах служил в нашей дипломатической миссии в Мюнхене и здесь сблизился с Ф. И. Тютчевым. Переехав в конце 1835 года в Петербург, князь Гагарин стал деятельным пропагандистом поэзии Тютчева. Через него именно попали в "Современник" стихотворения Ф. И. Тютчева. Гагарин писал Тютчеву в следующих выражениях: "До сих пор, любезнейший друг, я не поговорил с вами как следует о тетради, которую вы мне прислали с Крюднерами. Я провел над нею приятнейшие часы. Тут вновь встречаешься в поэтическом образе с теми ощущениями, которые сродны всему человечеству и которые более или менее переживались каждым из нас; но сверх того для меня это чтение соединялось с наслаждением совершенно особенным: на каждой странице живо припоминались мне вы и ваша душа, которую бывало мы вдвоем так часто и так тщательно разбирали... Пушкин ценит ваши стихи как должно и отзывался мне о них весьма сочувственно. Я отменно рад, что могу передать вам эти известия. По-моему, мало что может сравниться со счастием напечатлевать мысли и доставлять умственные наслаждения людям с дарованием и со вкусом. Поручите мне почетную должность быть вашим издателем".
Князь Петр Владимирович Долгоруков. С литографии из собрания Пушкинского Дома
Изложенными выше данными исчерпывается также и все то, что мы знаем о роли князя П. В. Долгорукова. Никаких выводов отсюда делать нельзя, но темные слухи с течением времени превращались в категорические утверждения. Так, в изданной в Берлине в 1869 году русской книжке "Нынешнее состояние России и заграничные русские деятели" на стр. 13-й можно прочесть: "Вероятно, вам памятно, как он, Долгоруков, будучи еще молод и неопытен, позволил себе написать анонимное письмо к нашему народному поэту Пушкину". Князь П. А. Вяземский, весьма осведомленный свидетель-современник, против этой фразы отметил на полях книжки: "Это еще не доказано, хотя Долгоруков и был в состоянии сделать эту гнусность"*. Неприглядность нравственной личности князя Долгорукова, действительно, не есть еще достаточное основание для его обвинения в составлении и распространении пасквиля. Б. Л. Модзалевский, давший большой материал для отрицательной характеристики Долгорукова и высказавшийся за причастие его к фабрикации пасквиля, в конце концов опирался на эту характеристику и не указал об'ективных улик**.
* (Сообщение графа С. Д. Шереметева в "Русском архиве", 1901, III, стр., 255.)
** (Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина" стр. 13 - 49.)
В конце концов из всех выдвинутых против Гагарина и Долгорукова соображений и обстоятельств наиболее веским, громко говорящим против них, является их нахождение в кругу Геккерена. Молодые люди наглого разврата окружали посланника, и князья-друзья были из их числа, и, конечно, мы должны считать их в 1836 году в стане врагов Пушкина. Они принадлежали к золотой молодежи Петербурга. Об ее забавах и шалостях как раз в интересующий нас период рассказывает князь А. В. Трубецкой: "В то время несколько шалунов из молодежи, - между прочим Урусов, Опочинин, Строганов, мой cousin, - стали рассылать анонимные письма по мужьям-рогоносцам. В числе многих получил такое письмо и Пушкин". Характерно в этом сообщении то, что автор не видит ничего особенного в действиях шалунов из молодежи, что ему представляется рассылка пасквилей по мужьям-рогоносцам делом обыкновенным, в порядке вещей. Какой же низкий моральный уровень современного Пушкину света зафиксирован свидетельством князя Трубецкого! К сообщению князя А. В. Трубецкого надо добавить рассказ графа В. А. Соллогуба о пасквилях. От'езжая из Петербурга в начале декабря 1836 года, граф Соллогуб зашел проститься с д'Аршиаком. "Он показал мне несколько печатных бланков с разными шутовскими дипломами на разные нелепые звания. Он рассказал мне, что венское общество целую зиму забавлялось рассылкою подобных мистификаций. Тут находился тоже печатный образец диплома, посланного Пушкину. Таким образом, гнусный шутник, причинивший его смерть, не выдумал даже своей шутки, а получил образец от какого-то члена дипломатического корпуса и списал".
В такой атмосфере, творили свое гнусное дело питомцы Геккерена. Но кто же списывал, кто писал пасквиль?
10
III отделение в свое время разыскивало переписчиков пасквиля, но оно занималось розысками по понуждению, неохотно, без всякого рвения. Сохранилась в секретном досье III отделений "записка для памяти" графа Бенкендорфа следующего содержания (по-французски): "некто Тибо, друг Россетти, служащий в Главном штабе, не он ли написал гадости о Пушкине". Отделение заработало, выяснило, что в Главном штабе Тибо нет, а есть два Тибо на почтамте. Были доставлены почерки того и другого Тибо. А. С. Поляков по поводу жандармских розысков замечает: "каковы были результаты расследования, чем оно закончилось, документы III отделения нам ничего не говорят. Подозрения, видимо, были напрасны, так как "дела" о Тибо не имеется, а Осипа Тибо и в следующем году мы также видим служащим в почтамте на той же должности". А. С. Поляков произвел собственные разыскания и указал еще на одного Тибо, Людвига, учителя французского языка Ларинской гимназии, но это уже неизвестно к чему. Кто направил Бенкендорфа на след Тибо, неизвестно, но я думаю, инспиратор не имел в виду ни одного из названных Тибо. Вернее всего, это был m-r Тибо, упоминаемый и в записках А. О. Смирновой и в письмах А. Н. Карамзина, воспитатель или гувернер в семье Карамзиных; конечно, это он был в приятельских отношениях с К. О. Россетом, братом А. О. Смирновой.
После неудачных диверсий в сторону Тибо III отделение попыталось еще поставить сличение почерка пасквиля с почерком Дантеса. Надо было затребовать русский почерк Дантеса, но Дантес как будто догадался об умысле и при собственноручном письме на французском языке препроводил адрес учителя русского языка, написанный рукою слуги. Сохранилось и еще одно сообщение о розысках - в воспоминаниях Н. И. Иваницкого, бывшего в то время студентом университета. "Тайная полиция часто обращалась с этим письмом к нашему отставному профессору Бутырскому, не может ли он узнать по почерку этих писем, потому что под его руководством воспитывалось много молодых людей, и, следовательно, он мог примениться к разным почеркам. Но Бутырский, разумеется, не мог узнать. Я слышал это от Бутырского". III отделение в своих поисках шло по ложному следу и, производя розыски, точно отбывало какую-то тяжелую и неприятную повинность.
Только III отделение действительно могло получить какие-либо выводы о писцах пасквиля, потому что в его распоряжений был подлинный экземпляр пасквиля. Вне III отделения подлинных экземпляров не было; друзья Пушкина уничтожили анонимные письма, и пасквиль обращался только в копиях. Мы уже говорили о том, что Соболевский разыскивал подлинный экземпляр в 1861 году и не нашел. И он и В. А. Соллогуб возлагали большую надежду на результаты сличения почерков. Соллогуб утверждал: "Стоит только экспертам исследовать почерк, и имя настоящего убийцы Пушкина сделается известным на вечное презрение всему русскому народу. Это имя вертится у меня на языке, но пусть его отыщет и назовет не достоверная догадка, а божье правосудие".
Только во втором десятилетии двадцатого века были обнаружены подлинные экземпляры диплома, и только в 1927 году, через девяносто лет после событий, я мог поставить научную экспертизу почерков. Впервые вместо достоверных догадок мы опираемся на об'ективные данные графического анализа, и впервые не божье правосудие, а судебный эксперт ленинградского Губсуда называет имя человека, чьей рукой написан диплом на звание рогоносца. Конечно, этому жалкому пасквильному герою мы не дадим эпитета "настоящий убийца Пушкина". Если даже возводить (чего мы не делаем) смерть Пушкина от ран на дуэли только к анонимным письмам, то и тогда мы должны сказать, что убийца был не один, что убийцей был целый коллектив, члены которого были об'единены и спаяны общим пороком. В этом патологическом коллективе один играл роль руководителя, другие исполнителей. Одного из таких физических исполнителей мы можем назвать теперь без риска ошибки.
В конце июля 1927 года я обратился к известному ленинградскому специалисту, судебному эксперту и инспектору научно-технического бюро ленинградского губернского уголовного розыска А. А. Салькову и предложил ему произвести графическое исследование почерков на пред'явленных мною документах, а пред'явлены были следующие документы: 1-2) два подлинных экземпляра пасквиля, разосланного 4 ноября 1836 года; 3) конверт, в котором был прислан один из указанных экземпляров; 4) письмо посланника барона Геккерена к Жоржу Дантесу, то самое, которое было обнаружено в 1917 году в секретном архиве III отделения; 5-6) письмо И. С. Гагарина к Н. И. Тургеневу с русским и французским текстом; 7) почтовый конверт с адресом, написанным рукой И. С. Гагарина; 8) письмо Гагарина к А. И. Тургеневу от 1 октября 1838 года; 9-10) два письма - одно с конвертом, - адресованные П. В. Анненкову и написанные кн. П. В. Долгоруковым; 11) письмо кн. П. В. Долгорукова от 24 октября 1864 года к Я. П. Полонскому, 12) конверт с адресом на имя Щербины, писанный рукой кн. П. В. Долгорукова; 13) факсимиле письма кн. П. В. Долгорукова к князю Воронцову от 4/16 июня 1856 года, и 14) факсимиле сфабрикованного кн. П. В. Долгоруковым анонимного письма, бывшего предметом разбирательства в гражданском суде департамента Сены в 1861-1862 году.
Таким образом, три человека были привлечены к следствию по делу о написании пасквилей: барон Луи Геккерен, князь Иван Сергеевич Гагарин и князь Петр Владимирович Долгоруков. В течение августа судебный эксперт производил изучение и сличение почерков этих лиц с почерком диплома. Результаты своего исследования он изложил в обширном "протоколе графической экспертизы почерка"*.
* (<"Протокол графической экспертизы почерка", произведенной А. А. Сальковым, напечатан П. Е. Щеголевым в третьем издании его книги, где факсимильно воспроизведены документы, исследованные Сальковым. > (Прим. ред.).)
Привожу здесь заключение экспертизы: "На основании детального анализа почерков на данных мне анонимных пасквильных письмах об А. С. Пушкине и сличения этих почерков с образцами подлинного почерка князя Петра Владимировича Долгорукова в разные годы его жизни, а также с умышленно измененным почерком анонимного письма шантажного характера к князю Воронцову в 1855 году, отождествленного с почерком князя Петра Владимировича Долгорукова экспертом Theophile Delarue в 1861 году в Париже, я, судебный эксперт, Алексей Андреевич Сальков, заключаю, что данные мне для экспертизы в подлинниках пасквильные письма об Александре Сергеевиче Пушкине в ноябре 1836 года написаны несомненно собственноручно князем Петром Владимировичем Долгоруковым".
11
Итак - князь Петр Владимирович Долгоруков! Имя называлось много раз, но всякий раз называвший делал оговорку, отказывался от категорического утверждения (даже кн. П. А. Вяземский). Теперь у нас есть фактические основания, чтобы пригвоздить имя этого князя к позорному столбу. Один из физических исполнителей найден, но, повторяем, в этом гнусном деле участвовал коллектив. Долгоруков, конечно, не один.
Теперь уже мы обязаны вновь обратиться к личности князя, войти в рассуждение об его интеллектуальных качествах и выяснить мотивы его поведения в деле Пушкина.
Князь Долгоруков - на всем протяжении сознательной жизни - характерное и по временам комическое порождение фронды родовитого русского дворянства против самодержавия и узурпации так называемой династии Романовых. В эмигрантских кругах того времени Долгорукова в шутку называли претендентом на русский престол. А сам он всерьез считал себя таковым. Мы можем привести свидетельство современников о том, как в последние годы жизни в России князь Долгоруков без всяких стеснений среди дворян Чернского уезда, Тульской губернии, говорил: "Романовы узурпаторы, а если кому царствовать в России, так, конечно, мне, Долгорукову, прямому Рюриковичу"*. Действительно, Долгоруковы побивали своей генеалогией Романовых.
* (Со слов Н. В. Минина; ему рассказывал отец, чернский предводитель дворянства.)
Не останавливаясь на предках князя Долгорукова, игравших громкую роль в XVIII веке, отметим его деда Петра Петровича, генерала-от-инфантерии, служившего, между прочим, московским губернатором и начальником Тульского оружейного завода. От брака его с Анастасией Семеновной Лаптевой было три сына: Владимир, Петр и Михаил, и две дочери: Елена (замужем за С. В. Толстым) и Мария (за Н. П. Римским-Корсаковым). Старший сын Владимир (1773-1817), отец нашего князя Петра, не сделал особо громкой военной карьеры: как говорят современники, его военным дарованиям не суждено было развернуться. Но два младших брата, Петр (1777 - 1806) и Михаил (1780-1808), были, тоже по словам современника, на редкость блестящих качеств и исключительного счастия. Петр, один из ближайших сотрудников Александра I в первые годы царствования, генерал-ад'ютант на 21-м году жизни, был идеологом борьбы с Наполеоном, вел по поручению Александра переговоры с Наполеоном; Наполеон называл его дерзким повесой и жаловался, что он разговаривает с ним, как с боярином, которого решили сослать в Сибирь. Князь отличался самонадеянностью и вздорным своеволием. Современники приписывали проигрыш Аустерлицкого сражения его вмешательству в военные операции. Ему предстояла блестящая будущность, но он умер на 30-м году жизни. Михаил Долгоруков - генерал-ад'ютант на 27-м году жизни, блестящий представитель русской аристократии, - прославленный подвигами бранными и любовными, - увлекший сердце царской сестры Екатерины Павловны. Об этих дядьях князя Петра надо было сказать, потому что его детское воображение было поражено рассказами о их громкой, яркой карьере. Их слава была его путеводной звездой.
Петр Владимирович Долгоруков родился 27 декабря 1816 года. Этот день в то же время и день смерти его матери. Отец немного пережил свою жену: умер 24 ноября 1817 года. Единственный сын остался сиротой и воспитывался в Москве у своей бабушки Анастасии Семеновны, жившей в доме дочери М. П. Римской-Корсаковой. 13 декабря 1817 года годовалый ребенок был определен пажом к высочайшему двору. Одиннадцати лет, в 1827 году, он был отвезен в Пажеский корпус, где и закончил свое образование. В 1831 году 22 апреля он был произведен в камер-пажи, но в этом же году с ним что-то стряслось, в чем-то он провинился, но мне не удалось разыскать в остатках архива Пажеского корпуса никаких данных о его проступке. По высочайшему повелению он был разжалован за дурное поведение и леность из камер-пажей в пажи. В чем состояло дурное поведение, остается невыясненным. Но проступок этот испортил всю карьеру Долгорукова и сказался при выпуске из корпуса. Пажеский корпус поставлял офицеров в самые привилегированные полки, а Долгоруков не только не попал в гвардию, но и не получил назначения по армии; он был выпущен к статским делам, да и то не с чином 10-го класса, а только 12-го класса. Хуже нельзя было кончить. Но этого мало: из Пажеского корпуса выдали ему аттестат, в котором было помянуто и о разжаловании за дурное поведение в пажи, и о неспособности к военной службе, - не аттестат, а прямо волчий паспорт. Если такой аттестат выдали на руки Долгорукову, юноше, связанному родством с крупнейшими представителями знати, значит, его "поведение" было исключительно "дурным". Из товарищей по выпуску назовем А. О. Россета, брата известной приятельницы Пушкина А. О. Смирновой; кн. Сергея Васильевича Трубецкого, выпущенного в Кавалергардский полк, знаменитого повесу и соперника Николая Павловича по любовным делам, брата того самого А. В. Трубецкого, который оставил любопытный рассказ об отношениях Дантеса и Пушкина; Баранова, тверского губернатора и брата известного временщика при Александре II. Среди товарищей Долгорукова был и А. С. Маевский, о котором сам Долгоруков рассказывает: "Маевский был одарен обширными умственными способностями, энергиею и даром слова, но был характера бешеного, и, к сожалению, был подвержен азиатскому пороку. Находясь ад'ютантом л.-гв. Литовского полка, он имел в 1840 году из-за одного молодого барабанщика гнусную ссору с офицером того же полка Разводовским, и в припадке гнева, выхватив шпагу, нанес Разводовскому легкую рану и т. д. Вот какие взрывы дает иногда борьба на почве "астических" увлечений.
Аттестат Долгорукова, выданный Пажеским корпусом, послужил тяжким препятствием к службе у статских дел. Нужна была особая протекция для поступления на службу, и он нашел ее у С. С. Уварова, управлявшего министерством народного просвещения, того Уварова, которого ославил Пушкин в оде "На выздоровление Лукулла". 10 февраля 1834 года кн. Долгоруков обратился с просьбой об определении его по министерству народного просвещения. В тот же день Уваров положил резолюцию определить на службу с откомандированием в канцелярию министерства; в тот же день были выполнены все формальности, и Долгоруков был зачислен по ведомству Уварова без жалования. Очевидно, Долгоруков только числился и вряд ли нес какие-либо служебные обязанности. В 1839 году он уже занимался генеалогией; по отношению канцелярии мин. нар. просв. от 28 апреля 1839 года был допущен в герольдию Правительствующего сената и к осмотру книг дворянских родов.
Выйдя из Пажеского корпуса, Долгоруков по своему происхождению и родству не мог, конечно, не занять известное положение в свете, но все отзывы о нем сходятся: все отрицательны. Родственница его вспоминала впоследствии: "умный человек, но очень резкий на язык, собой не хорош и прихрамывал (отсюда его прозвище (bancal)**". В 1834 году он еще не вышел из опеки и был просто восемнадцатилетний аристократ, который веселится так, как он хочет. Он тоже оказался среди молодежи, окружавшей барона Геккерена, и, следовательно, принадлежал к той же великосветской группировке по сходству противоестественных вкусов. Были уже цитированы показания на этот счет хорошо осведомленных свидетелей - кн. Вяземского и Н. М. Смирнова*. Мы можем добавить еще одно свидетельство о женоненавистничестве Долгорукова. Он женился в 1848 году на О. Д. Давыдовой; супружеская жизнь Долгорукова была сплошным скандалом: о непрерывных семейных ссорах (вплоть до избиений, совершаемых кн. Долгоруковым) даже и III отделению надоело слушать. И когда князю говорили, как он может оставлять в пренебрежении свою жену, красивую женщину, он отвечал (вспомним о чете Борх!): "это кучерское дело".
* (Надо сопоставить и свидетельство графа M. Д. Бутурлина "о непочтительной фамилиарности, с каковою обходились с Долгоруковым иные молодые люди и на которую он как бы не обращал внимания" - "Русский архив", 1901, т. III стр. 410.)
** (Косолапый)
В 1836 году, осенью, когда разыгралась семейная история Пушкина, Долгорукову еще не было полных двадцати лет. Принял он участие в гнусной игре против Пушкина не по каким-либо личным отношениям к Пушкину (таких отношений мы не знаем), а просто потому, что, вращаясь в специфическом кругу барона Геккерена, не мог не принять участия в общих затеях. В мемуарной литературе сохранился рассказ В. Ф. Адлерберга о том, как зимою 1836 - 1837 года на одном из вечеров он увидел, как стоявший позади Пушкина молодой князь Долгоруков кому-то указывал на Дантеса и при этом поднимал вверх пальцы, растопыривая их рогами. Действительно, молодой князь из Рюриковичей веселился, как хотел. И злобы у него на Пушкина никакой не было, а отчего не потешиться! Допустимо сделать предположение, что он-то и заострил диплом и направил намек в Николая, ибо никакой любви и преданности он не имел к царю, так жестоко обидевшему его и положившему конец его карьере. "Исторические" подробности, которыми изобилует диплом, выдают в авторе любителя истории, а таким и был князь П. В. Долгоруков.
Так об'ясняю я участие Долгорукова.
12
Собственно говоря, на этом моменте можно бы и расстаться с князем Долгоруковым в истории жизни Пушкина; но гнусное преступление, им совершенное, заставляет меня войти в некоторые подробности к его характеристике.
Представитель древнейшего рода, плененный своей родословной, князь Долгоруков должен был поставить крест на своей карьере служебной. Самолюбие его было уязвлено раз навсегда. Чем были его дядья, любимцы царя, в его возрасте! А он только "числился" при министрах - сначала народного просвещения, а потом внутренних дел. По собственному его заявлению (1843 г.) он "имел, невзирая на молодость свою, сознание умственных способностей, дарованных ему богом, и - может быть - не совсем обыкновенных". И при таком сознании никакого приложения способностям! В 1843 году с ним случилась неприятность, о которой скажем дальше, он был выслан в Вятку с предложением губернатору определить его на службу. По этому поводу Долгоруков обратился к графу Бенкендорфу с письмом: "Прошу у вашего сиятельства дозволения представить вам (и весьма бы мне желательно было видеть доведенным это дело до высочайшего сведения), что насчет определения моего на службу в Вятку, определение это нарушает закон о дворянстве, коим предоставлено каждому дворянину служить или не служить. Закон сей помещен в Своде законов, изданном по повелению государя императора. Насчет ссылки моей за издание книги, наиполезнейшей для русского дворянства, покоряюсь без ропота воле бога и государя, и куда бы меня ни заточили, в Вятку ли, в Нерчинск ли, в крепость ли, хотя на всю жизнь, я всякое несчастие приму с покорностью, как тяжкое испытание, ниспосланное мне богом, а судить меня с государем будет бог и потомство!"
Как это ни странно, но письмо подействовало, и вятскому губернатору приказано было не считать его на службе. А когда в следующем году Долгорукову было разрешено оставить Вятку и посвятить себя службе по собственному выбору, Долгоруков отказался от службы и раз'яснил Бенкендорфу мотивы своего решения: "За последние 30 лет повышать в чинах у нас стали гораздо медленнее, чем это было прежде. Теперь к 50 годам дослуживаются только до чина, до которого прежде можно было дослужить в 30-40 лет. Из всех лиц, занимающих теперь высокие посты и пользующихся доверием его величества, семь из десяти сделали именно такую быструю карьеру и в 30 лет или около того были уже генералами или действ, статскими советниками. Кроме того, я принадлежу ко второму разряду гражданского производства* и даже за отличие могу быть повышен лишь раз в три года. Я могу поступить на службу только в чине IX класса (ибо в 1841 г. окончил срок службы в X классе). Мне 27 лет и, следовательно, чин д. ст. советника я могу получить только 42 лет. Мой отец и мои дядья были генералами в 25 лет**.
* (Эти слова и в оригинале написаны по-русски.)
** (М. К. Лемке. Николаевские жандармы и литература. СПБ. 1908, стр. 540 и 544)
Да, самолюбие Долгорукова было ущемлено навсегда, и он почитал себя кровно обиженным и монархом и его ближайшими слугами.
Долгорукову надо было компенсировать себя за крах служебной карьеры. С юношеских лет он находил удовольствие в генеалогических разысканиях. Обычно родословные разведки сухи и академичны, но Долгоруков придал им жизненную остроту и живость. Расследуя родословные первейших сановников российской империи, вскрывая тщательно укрываемые ими непочтенные подробности из истории возвышения их родов, запоминая их настоящие действия в борьбе за чины и положение, Долгоруков нашел способ отмщения. Он понял, что знать боится оглашения гнусностей родовых и личных, и мечтой его стало опубликование собранных им материалов. В 1843 году он сделал первую попытку. В 1841 году он выехал за границу; в письме А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому находим любопытное сообщение об его появлении в Париже: "Косолапый князь Долгоруков здесь, но у меня все будет в целости, ибо я не пущу его к себе". В Париже он напечатал в 1843 году под псевдонимом графа д'Альмагро небольшую книжку "Notice sur les families de laRussie" и положил начало распубликованию исторических подробностей, весьма неприятных и для высшего дворянства и для самого царя*. "Эта брошюра, - доносил в III отделение Я. Н. Толстой, - весьма некстати изображает русское дворянство в самых гнусных красках, как гнездо крамольников и убийц... Это произведение проникнуто духом удивительного бесстыдства и распущенности... Автор имел нескромность говорить, что он будет просить у русского правительства места, соответствующего его уму и дарованиям... Он мечтает не более, не менее, как быть министром... Долгоруков думает, что его книга может служить пугалом, с помощью которого он добьется чего угодно". От Долгорукова потребовали немедленного возвращения на родину. Он повиновался; на пути из Берлина он написал прелюбопытное и не без хитрости письмо Николаю: "не преступленьем ли было бы со стороны истории, - пишет он, - потакать притязаниям фамилий, притязаниям часто нелепым до невероятности, или покрывать завесою равнодушного забвения гнусные воспоминания лихоимства и грабежа?.. Но высшей моей заслугой перед доблестным дворянством, к первому слою коего имею честь принадлежать по своему рождению, - было оклеймение памяти цареубийц!.." Не лишенное остроумия оправдание оказало влияние на Николая, и Долгоруков отделался кратковременной, годичной ссылкой в Вятку. Из Вятки Долгоруков приехал в Москву. Ю. Ф. Самарин писал в 1844 году по поводу его появления в Москве в кругу Аксаковых: "сколько из этого выйдет драматических столкновений и смешных положений. Долгоруков думает поселиться в Москве; он держит себя точно так, как держал себя Валленштейн в опале. Признаюсь, что мысль, что я избавлюсь от его дружбы и частых посещений, одна утешает меня при от'езде из Москвы".
* (О роде Пушкиных в этой книге Долгоруков сообщает (стр. 76) : "Дом Пушкиных дал много бояр в 1 7 веке, а в 19-м он дал поэта, самого национального, какой когда-либо был в России - знаменитого Пушкина, имя которого составит эпоху в русской литературе". Перечень положительных упоминаний о Пушкине в "Memoires" Долгорукова дан Б. Л. Модзалевским в названной статье, стр. 39-40, прим.)
Долгоруков обратился к занятиям по генеалогии: после "Российского родословного сборника", вышедшего еще в 1840-1841 годах, он засел за огромную "Российскую родословную книгу". Четыре ее тома появились в 1855-1857 годах. Труд его признается выдающимся в области генеалогии и до сих пор не утратил своей ценности. Но, работая и публикуя свои работы в России, Долгоруков, конечно, не мог использовать собранные им генеалогические материалы обличительного характера в силу цензурных условий. Закончив четырехтомный труд и томимый жаждой славы, известности, Долгоруков в 1859 году оставил без разрешения и паспорта Россию и появился за границей в роли политического эмигранта и журналиста. В апреле 1860 года он выпустил свой памфлет на французском языке под заглавием "La verite sur la Russie"*, а в сентябре начал редактировать журнал "Будущность", заполняя его преимущественно своими статьями. В 1862 году, по прекращении "Будущности", Долгоруков начал издавать журнал "Правдивый" ("Le Veridique"), сначала на русском, а потом на французском языке. В 1862-1864 годах он издавал третий свой журнал - "Листок". Во всех этих журналах привлекали внимание не публицистические статьи, доказывавшие необходимость для России конституционной монархии с двухпалатной системой, а многочисленные биографические очерки министров и сановников государства. Написанные с знанием дела, с желчной иронией и злостью, очерки рисовали картины глубокого развращения и падения правящих слоев России. Нельзя не пожалеть о том, что все эти материалы не сделались достоянием исследователей и не вошли в научный оборот. Само собой, эта деятельность Долгорукова вызвала величайшее раздражение и озлобление в русских правительственных сферах. Некоторое время Долгоруков, должно быть, чувствовал удовлетворение.
* ("Правда о России".)
13
Процессу князя М. С. Воронцова против князя П. В. Долгорукова надо уделить особое внимание: во-первых, сам Долгоруков ставил в связь с ним возникновение "клеветы" на него по делу об анонимном письме, полученном Пушкиным; во-вторых, процесс этот дает чрезвычайно важный материал для характеристики князя. Не забираясь в подробности, для моей цели не важные, изложу основные моменты процесса и приведу документы, некоторые из которых были подвергнуты экспертизе по нашему заданию в 1927 году.
4 (16) июня 1856 года кн. П. В. Долгоруков обратился к фельдмаршалу князю М. С. Воронцову с письмом, русский перевод которого предлагается вниманию читателей:
Светлейший князь,
Я доканчиваю теперь четвертую часть своей Родословной книги; в эту часть войдут Вельяминовы, а следовательно, и древние Воронцовы. Я тщательно пересматриваю бумаги, присланные мне вашей светлостью, и доселе не мог доискаться ни в древних актах, ни в летописях, доказательств подлинности этих бумаг. Чувства уважения и благоговения, какие я питаю к вашей светлости, крайне усладили бы для меня удовольствие угодить вам, но я вынужден буду напечатать статью совсем не в том виде, как вы бы желали, если вы не поспешите прислать мне дополнительных документов, которые, выяснив темные места, могли бы устранить все затруднения.
Время идет, время идет: надо поторопиться высылкою документов. Я пробуду в деревне до первых чисел сентября. Мой адрес следующий... Тульской губернии в город Чернь.
Прошу вашу светлость принять уверение в глубоком почтении и искренней преданности, с какими имею честь пребыть вашим покорнейшим слугою.
Князь Петр Долгоруков.
Письмо Долгорукова нашло Воронцова на водах в Вильдбаде. Когда Воронцов в присутствии жены и знакомых вскрыл конверт, в нем, кроме письма, только что процитированного, оказалась еще записка на французском языке, без подписи, писанная явно измененным почерком. Даем здесь перевод:
"Его светлость князь Воронцов обладает верным средством побудить к напечатанию своей генеалогии в российской Родословной книге в том виде, как ему угодно средство это - подарить князю Долгорукову 50 000 рублей серебром; тогда все сделается по его желанию. Но времени терять не должно".
Через день по получении двойного письма Воронцов ответил Долгорукову:
Ваше сиятельство,
Спешу отвечать на письмо, которым вам угодно было почтить меня, от 4 (16) июня. Вы требуете от меня документов в дополнение к переданным вам мною в Петербурге и которые я почитал достаточным доказательством того, что нынешние Воронцовы одного рода с прежними и происходят по прямой линии от тех, которые играли в нашей истории важную роль до разгромления их царем Иоанном Васильевичем. Рассмотрев эти документы, вы мне откровенно сказали, что они не вполне удовлетворяют вас в том, что, напротив, нам представляется совершенно ясным, но что, для соблюдения справедливости в этом спорном вопросе, вы напечатаете в ближайшем томе вашего сочинения все, что я вам сообщил, предоставляя окончательный суд публике. Теперь вы спрашиваете у меня еще новых документов, которых я никак не могу иметь, особенно здесь, в Вильдбаде, и настаиваете, чтобы я сделал это тотчас же, потому что вы готовитесь издать свой четвертый том, где будет говориться о Вельяминовых, а, следовательно, и о так называемых вами древних Воронцовых. От вас зависит сделать в этом случае что угодно; но как я верю в подлинность переданных вам документов и как мне не хотелось бы, чтобы каждый говорил без дальних справок, что нынешние Воронцовы совсем не те, что древние, и что мы происходим от какого-нибудь побродяги, который только лет за полтораста тому назад принял имя рода, к которому сам вовсе не принадлежал, то я оговариваю свое право протестовать публикацией с своей стороны, чтобы передать спор наш на суд публики. Позвольте мне, между тем, поблагодарить вас за труды по всему этому делу, жалею только, что вы не находите возможным сдержать данное мне обещание насчет напечатания моих документов рядом с теми, которые вы прежде получили о нашем роде, причем вы были властны не произносить об этом своего решительного мнения, предоставляя публике рассудить нас.
Прошу принять уверение в чувствах моего особенного к вам уважения.
P. S. К великому моему удивлению, я нашел в вашем письме записку без подписи, и руки, как мне кажется, несходной с вашей. Посылаю вам с нее копию. Вам, может быть, удастся разузнать, кто осмелился вложить подобную записку в письмо, запечатанное вами и вашею печатью. Подлинник счел я нужным приберечь вместе с письмом, которым вы меня почтили, а при свидании я готов вручить вам эту записку, если вы, может статься, захотите воспользоваться ею для открытия писавшего.
В маленькой приписке и заключен весь яд. Конечно, в изысканно вежливых фразах постскриптума ("записка без подписи и руки, как кажется, не вашей") никак нельзя усмотреть, что князь Воронцов не считал записку не писанной рукой Долгорукова, как впоследствии утверждал последний. Обвинение было пред'явлено определенно, и Долгорукову было предложено избрать способ реакции. И как же реагировал Долгоруков? 16(28) июля 1856 года от ответил Воронцову:
Светлейший князь,
Я имел честь получить ваше письмо из Вильдбада от 27 июня (9 июля). Я был изумлен, узнав из этого письма, что вы нашли в моем записку неизвестной руки, и, пробегая присланную вами копию этой записки, я бы очень полюбопытствовал узнать, кто осмелился дозволить себе эту дерзкую проделку, этот поступок, которому нет названия!
Но возвратимся к родословному вопросу, о котором каждый из нас думает по-своему. Вы говорите в своем письме, что по выходе, зимою, четвертой части моей Родословной книги, - вы напечатаете протестацию. Это совершенно справедливо: каждый имеет право протестовать против печатного сочинения. Но, когда однажды начнется эта полемика, я в свою очередь предоставляю себе отвечать контр-протестацией, основанной на фактах и неопровержимых доказательствах. Публика произнесет свой суд.
Прошу ваше сиятельство благосклонно принять уверение в моем уважении.
Князь Петр Долгоруков.
Этим письмом заканчиваются все сношения князей Воронцова и Долгорукова по прискорбному случаю анонимной шантажной записки. В ноябре 1856 года Воронцов умер, и дело казалось похороненным так же, как в свое время было похоронено и дело об анонимном пасквиле. Но прошло несколько лет, Долгоруков эмигрировал за границу, начал здесь свой поход против русского правительства и аристократии и в 1860 году напечатал по-французски: "La vérité sur a Russie". 29 апреля 1860 года в "Courrier du Dimanche" появилась заметка об этой книге за подписью А. В. Мишенского; в ней находится и следующее глухое упоминание об инциденте Воронцов - Долгоруков: "несколько времени тому назад мы были намерены подвергнуть критике работу, которая представляла, на первый взгляд, большой интерес. Содержание ее - генеалогическая история аристократических фамилий иностранной земли, но нам предявили письмо автора к одному из высокопоставленных лиц, чья генеалогия должна была войти в одну книгу. Письмо это заключало категорическое предложение дать авансу 50 000 руб., за что он принимал обязательство уничтожить документы, находившиеся, по его словам, в его распоряжении и дававшие основание к подозрению происхождения и прямых предков лица, которому было адресовано это предложение". Хотя в этой тираде не было сообщено ни одного имени, ни названия книги, Долгоруков поднял перчатку и выступил с письмом, помещенным в том же "Courrier du Dimanche" 6 мая 1860 года.
Здесь он прямо берет на свой счет намек, оскорбительный для его чести, и говорит, что обвинение основано на гнуснейшей клевете и на самом наглом подлоге, возможном только в такой стране, как Россия. Затем он рассказывает сношения свои с покойным фельдмаршалом князем М. С. Воронцовым по поводу помещения в издававшейся Долгоруковым Родословной книге генеалогии древних бояр Воронцовых, от которых фельдмаршал производил свой род. По словам Долгорукова, он, после долгого и тщетного ожидания обещанных ему документов, только из вежливости написал фельдмаршалу, что, к прискорбию, не может исполнить его желания, так как до сих пор не имел случая видеть известных документов. "Представьте же себе мое изумление и негодование, - прибавляет он, - когда я получил от фельдмаршала оскорбительное для меня известие, будто в письме моем он нашел записку другой руки, которою его вызывали прислать мне 50 000. Раздраженный, я отвечал фельдмаршалу невежливым письмом, требуя пред'явления подлинника этой записки. Я хотел начать судебное следствие и, не допуская мысли, чтоб старый воин мог изменить в этом случае долгу чести, напрасно ожидал ответа несколько недель". Князь Долгоруков рассказывает потом, как бесполезны были старания его у высших властей вызвать законное следствие по делу с "андреевским кавалером и фельдмаршалом", и заключает выходкой, что "на человека, сильного при дворе, в России никогда не найти ни суда, ни расправы".
Долгоруков просчитался. Сын покойного Воронцова, князь Семен Михайлович, привлек Долгорукова к суду Сенского департамента (по месту жительства ответчика) за клевету и просил суд: 1) удостоверить тожественный почерк письма кн. Долгорукова и анонимной шантажной записки, оказавшейся при письме, 2) обязать напечатать приговор в периодических изданиях, и 3) взыскать протори и убытки по определению суда.
Дело разбиралось в нескольких заседаниях в декабре 1860 и январе 1861 годов. Со стороны Воронцова выступал адвокат Матье, со стороны Долгорукова - Мари; экспертизу документов производил эксперт императорского двора Деларю. 3 января 1861 года суд вынес приговор, которым все требования Воронцова были удовлетворены. Долгоруков был признан автором шантажного письма*.
* (Процесс Воронцова-Долгорукова породил обширную ли тературу, перечисленную в статье M. К. Лемке ("Былое" 1907, III, стр. 173) и Б. Л. Модзалевского ("Новые материалы...", назв. соч., стр. 18). Я пользуюсь изданием "Procdu prince Woronzow сontre le prince Pierre Dolgoroukow" Leipzig, 1862, и выдержкой из него "Дело кн. М. С. Воронцова против князя Долгорукова и против журнала "Courrierdu Dimanche", Москва 1862.)
Скандальный процесс двух русских князей привлек к себе необычайное внимание как за границей, так и в России. Сенатор К. Н. Лебедев в своих записках характеризовал итог процесса: "процесс Долгорукова кончился. Он признак виновным. Итак, доказано, что князья Воронцовы не древние Воронцовы и что древний Долгоруков нанимался сделать их древними. Стоило для этого таскаться в Париж и раскладывать па весь свет наши мелкие притязания и наши грубые мерзости". Но хотя процесс и наносил компрометацию имени Долгорукова, все-таки всеобщего доверия приговор французского суда не получил. Долгоруков не сдавался и повел дело, подобно обвиненному регенту в известном рассказе Чехова: когда регента осудил судья, он об'явил его подкупленным чиновником и перенес дело в с'езд, а затем он обвинил с'езд в том, что и он подкуплен, и собирался найти управу и на с'езд. Долгоруков, затемняя лично им совершенные факты, намекал очень прозрачно, что французский суд пристрастен и лицеприятен в силу близких связей Воронцова с высокопоставленными французскими бюрократами и в том числе с графом Морни, президентом законодательного корпуса. Долгоруков доказывал, что его процесс является актом мести со стороны русского правительства и русской знати за те разоблачения, которые он делал. Долгоруков считался политическим эмигрантом, жертвой преследований III отделения, и позиция, занятая им, была ему чрезвычайно выгодна. И Герцен должен был оказать ему защиту. В "Колоколе" от 15 января 1862 года он напечатал следующую заметку: "До нас доходят крики радости русской аристократической сволочи, живущей в Париже, о том, что, натянувши всевозможные влияния, им удалось получить какое-то бессмысленное осуждение кн. Долгорукова. Не знаем, насколько прилична или неприлична эта радость, - нравы передней нам мало знакомы, - но что французским юристам не до смеха от такого приговора, в этом мы уверены. Процесс этот делает своего рода черту в их традиции. Независимее от положительных доказательств суд редко поступал вне той страны, в которой судьи избираются из русской аристократической сволочи, живущей в России".
Этой заметке нельзя отказать в известной доле сдержанности. И. С. Тургенев, прочитав ее, писал Герцену: "Ты поступишь благоразумно, если не прикоснешься более ни единым пальцем до всего этого дела. Долгоруков (между нами) нравственно погиб и едва ли не поделом, ты сделал все, что мог в "Колоколе"; надо было его поддержать в силу принципа, а теперь предоставь его своей судьбе. Он будет к тебе лезть в самую глотку, но ты отхаркаешься. Нечего говорить, что Воронцовых тебе не из чего поддерживать; превратись в Юпитера, до которого все эти дрязги не должны доходить"*.
* (Герцен, т. XV, стр. 51-52. Тургенев отзывался о Долгорукове весьма резко. Так, в письме к М. А. Марко-Вовчок от 31 августа 1862 года из Берлина: "к сожалению, он (неизвестный, встретившийся в Бадене) глуп, как... как кн. П. В. Долгоруков. Сильнее сравнения я не знаю". "Минувшие годы", 1908, № 8, стр. 96.)
Возможно, что резкое отношение Тургенева об'ясняется некоторыми личностями, но, разбираясь в настоящее время в следственных материалах долгоруковского процесса со всевозможной об'ективностью, мы должны признать суждение французского суда справедливым и экспертизу французского эксперта правильной. Конечно, шантажное письмо написал кн. Долгоруков, и никто другой. Позволю себе привести одно соображение о мотивах его поступка. На суде адвокат Долгорукова говорил, что его клиент - человек состоятельный, и что на 50 000 он не польстится. Корыстный мотив, единственно об'ясняющий шантаж, представлялся весьма сомнительным защитнику Долгорукова. Но если исходить из известных нам биографических данных о характере Долгорукова, человека вздорного, неуживчивого, ёрника, обделенного судьбой злеца и завистника, то, конечно, не корысть мы должны предполагать в мотивах его действий, а провокационные вожделения скандала. Не денег жаждал от фельдмаршала Долгоруков, а только согласия на уплату: его было бы достаточно, чтобы Воронцов был скомпрометирован грандиознейшим образом. Но Воронцов не побоялся шантажа, и Долгоруков затих.
14
Разоблачения князя Долгорукова на французском процессе, об'явление его автором шантажного письма заставило, наконец, и друзей Пушкина назвать вслух то имя, которое они повторяли в беседах между собой. Имя Долгорукова было названо в 1863 году Аммосовым со слов Данзаса. Со стороны Долгорукова последовало опровержение. Оно было напечатано в "Колоколе" от 1 февраля 1863 года с следующим предисловием редакции, т. е. Герцена: "Мы получили от кн. П. В. Долгорукова следующее письмо, посланное им в "Современник". Что же, издатель "Дня" и тут удивится, зачем Долгоруков желает, чтоб его письмо было напечатано именно в "Современнике"? Довольно, что правительство конфискует имения отсутствующих, - конфисковать право ответа было бы из рук вон. Мы уверены, что письмо кн. Долгорукова будет напечатано".
Опасения Герцена и Долгорукова были напрасны: письмо было напечатано и в "Современнике". Выше мы привели полный текст оправдания Долгорукова. Анализируя его содержание, мы должны различать в нем две части: первая - декларативная - об'являет клеветой обвинение Долгорукова и Гагарина в соучастии в гнусном деле; вторая дает несколько фактических указаний, которые, по мнению Долгорукова, свидетельствуют в его пользу. Долгоруков взывает к свидетелям - и, прежде всего к Данзасу: "не могу верить, чтобы г. Данзас обвинял Гагарина и меня. Я познакомился с г. Данзасом в 1840 г., через три года после смерти его знаменитого друга, и знакомство наше продолжалось до выезда моего из России в 1859 году, т. е. 19 лет. Г. Данзас не стал бы знакомиться с убийцею Пушкина, и не он, конечно, подучил бы г. Аммосова напечатать эту клевету". Быть может, факты, указанные Долгоруковым, и верны, но из них еще нельзя сделать вывода в его пользу. И вот соображение, которое говорит против него. К. К. Данзас был жив, когда появилась книжка Аммосова; был жив, когда опубликовано было оправдание с этим самым обращением по его адресу, но ни в это время, ни позже (умер Данзас 3 февраля 1870 г.) он не выступил ни с какими опровержениями рассказа Аммосова. Рассказы Данзаса слушал не один Аммосов: в 1840 году - значит в тот самый год, когда познакомился с ним Долгоруков*,-в имении князей Голицыных Никольском он рассказывал историю дуэли Пушкина среди других слушателей и Фридриху Боденштедту и составителями анонимных писем назвал князей Гагарина и Долгорукова.
* (Данзас, служивший на Кавказе, имел отпуск в 1840 году с 20 января на 4 месяца, просрочил его и возвратился 1 декабря 1840 года. (См. Н. Гастфрейнд. Товарищи Пушкина по лицею, т. III, СПБ., 1813, стр. 332).)
Но ссылкой на Данзаса Долгоруков не ограничивается. "Г. Аммосову неизвестно, что я находился в дружеских сношениях с друзьями Пушкина: гр. М. Ю. Виельгорским, гр. Г. А. Строгановым, кн. А. М. Горчаковым, кн. П. А. Вяземским, П. А. Валуевым; с первыми двумя до самой кончины их, с тремя последними до выезда моего из России в 1859 году. Г. Аммосову неизвестно, что уже после смерти Пушкина я познакомился с его отцом, с его родным братом и находился в знакомстве с ними до самой смерти их".
Из числа друзей Пушкина, поименованных Долгоруковым, исключим князя А. М. Горчакова, - недружелюбие его к лицейскому товарищу Пушкина засвидетельствовано, - графа Г. А. Строганова - исключительно приязненное его отношение к семье Геккеренов известно нам из опубликованных в нашей книге материалов, - и П. А. Валуева - вряд ли Пушкин мог считать своим другом 22-летнего камер-юнкера, делавшего карьеру. 22 мая 1836 года Валуев женился на дочери П. А. Вяземского Марии Петровне. "Валуев уже тогда имел церемониймейстерские приемы и жил игрой, потому что ни жена, ни он не имели состояния", - вспоминала А. О. Смирнова. Семью Валуевых нельзя считать дружественной Пушкину. На Валуеву и Валуева указывал Жорж Дантес-Геккерен как на свидетелей в своем деле против Пушкина. О том, как смотрел кн. П. А. Вяземский на князя Долгорукова, мы знаем из его записи: "не доказано еще (составление пасквиля Долгоруковым), хотя Долгоруков и был в состоянии сделать эту гнусность". Эти слова написаны Вяземским по смерти Долгорукова. О существовании подозрений именно на Долгорукова у графа Виельгорского и Льва Пушкина мы узнаем из воспоминаний добросовестного свидетеля барона Ф. Бюлера. "В 1840-х годах, в одну из литературно-музыкальных суббот у князя В. Ф. Одоевского, мне случилось засидеться до того, что я остался в его кабинете самчетверт с графом Михаилом Юрьевичем Виельгорским и Львом Сергеевичем Пушкиным, известным в свое время под названием Левушки. Он тогда только что прибыл с Кавказа, в обще-армейском кавалерийском мундире с майорскими эполетами. Чертами лица и кудрявыми (хотя и русыми) волосами он несколько напоминал своего брата, но ростом был меньше его. Подали ужин, и тут-то Левушка в первый раз узнал из подробного в высшей степени занимательного рассказа графа Виельгорского все коварные подстрекания, которые довели брата его до дуэли. Передавать в печати слышанное тогда мною и теперь еще неудобно. Скажу только, что известный впоследствии писатель-генеалог князь П. В. Долгоруков был тут поименован в числе авторов возбудительных подметных писем"*.
* ("Русский архив", 1872, стр. 204. К ссылке Долгорукова на родственников Пушкина добавим еще свидетельство дочери Пушкина графини Н. А. Меренберг о том, что мать ее, Наталья Николаевна, считала авторами подметных писем Долгорукова в первую очередь, а Гагарина во вторую. (См. "Новые материалы о дуэли Пушкина", назв. соч. стр. 128 - 129.))
Последняя ссылка - на Л. В. Дубельта, управлявшего III отделением и при допросе Долгорукова в 1843 году по совсем иному поводу не спросившего его об авторстве пасквиля, - наивно несостоятельна, и на разборе ее останавливаться не стоит. Вот и вся фактическая часть оправдания Долгорукова.
15
Один из трех слушателей рассказа графа Виельгорского о дуэли и о кн. Долгорукове, составителе подметных писем, кн. В. Ф. Одоевский оставил и свое свидетельство об этом князе, до сих пор в литературе неизвестное. Позволю себе остановиться на индиценте Долгоруков - Одоевский несколько подробнее.
В 1860 году в № 1 своего журнала "Будущность", вышедшем 15 сентября, Долгоруков напечатал статейку-"Министр С. С. Ланской". В примечании Долгоруков дал язвительнейшую характеристику князя В. Ф. Одоевского, женатого на Ольге Степановне Ланской, сестре министра Сергея Степановича. До Одоевского сначала дошли только слухи об этой выходке. В октябре месяце 1860 года он записал в своем журнале*: "Говорят, что в журнале кн. Долгорукова (bancal) "Будущность" он об'являет, что я сделался придворным царедворцем, но, впрочем, не по моей вине, но по самолюбию жены! - что Серг. Степ. проиграл все свое состояние на девицах и румянах".
* (Госуд. публ. библиотека. Бумаги В. Ф. Одоевского, сборник № 15, журнал 1859-1864 годов.)
Но наконец он и сам прочитал и статью, и примечание, посвященное ему. Оно возмутило и взорвало Одоевского. Он переписал в дневник текст статейки, и, переписывая, в скобках в своих замечаниях дал выход чувству гнева, им овладевшему. Привожу полностью запись Одоевского: разрядкой набраны слова, им подчеркнутые, а в прямых скобках приписки к тексту самого Одоевского:
"В "Будущности" кн. Петра Долгорукова (1860, № 1-сен., стр. 15) посвящена мне следующая любопытная статейка (стр. 6 в прим.):
"Князь Одоевский, ныне единственный и весьма жалкий представитель древнего и знаменитого рода князей Одоевских, личность довольно забавная! В юности своей он жил в Москве, усердно изучал немецкую философию; кропал плохие стихи [неповинен]. Производил неудачные химические опыты [т. е. учился химии] и беспрестанным упражнением в музыке терзал слух всем своим знакомым. В весьма молодых летах он женился на Ольге Степановне Ланской, старше его несколькими годами, женщине крайне честолюбивой [!]. Она перевезла мужа в Петербург, и до такой степени приохотила его к петербургским слабостям и мелким проискам [!], что при пожаловании своем в камер-юнкера Одоевский пришел в восторг столь непомерный, что начальник его, тогдашний министр юстиции Дашков [никогда в юстиции не служил,] человек весьма умный, сказал: вот однако к чему приводит немецкая философия! [Экий вздор - я не ожидал моего камер-юнкерства и когда выразил мое удивление Дашкову, он мне сказал: Que voulez vous - c,est une conyenance*]. Одоевский бросался на все занятия [виноват]; давал музыкальные вечера [которые брали приступом]; писал скучные повести [может быть, только их нет уже в торговле и все они переведены на все языки] и чего уже не делал [даже не пускал к себе в переднюю таких негодяев, как Петр Долгорукий]! По выходе его пестрых сказок знаменитый Пушкин [тот самый, к которому анонимные письма писал тот же Долгоруков, бывшие причиной дуэли] спросил у него [я тогда вовсе и не был еще знаком с Пушкиным]: "когда выйдет вторая книжка твоих сказок?" [мы с Пушкиным были на вы]. "Не скоро, - отвечал Одоевский,-ведь писать нелегко!".-"А коли трудно, зачем же ты пишешь?"-возразил Пушкин [такого разговора не было вовсе-и не могло быть - Пушкин сам писал с большим трудом, в чем сам сознавался и чему доказательства его черновые стихотворения - Пушкин уважал меня и весьма дорожил моими сочинениями, и печатал их с признательностью в "Современнике"]. Ныне Одоевский между светскими людьми слывет за литератора, а между литераторами за светского человека. Спина у него из каучука [ну уж этого никто на Руси, кроме подлеца, не скажет] - жадность к лентам и к придворным приглашениям непомерная [ну уж убил бобра] и, постоянно извиваясь то направо, то налево, он дополз [!] до чина гофмейстера. При его низкопоклонности, украшенной совершенной неспособностью ко всему дельному и серьезному, мы очень удивимся, если при существовании нынешнего порядка вещей (или правильнее: беспорядка) вещей в России еще лет десяток не увидим Одоевского обергофмейстером и членом Государственного совета".
* (Что поделаешь - этого требует приличие.)
Я посылаю Петру Долгорукову следующий ответ.
Стихов не писал, Музыкой не надоедал, Спины не сгибал, Честно жил, работал, Подлецов в рожу бивал.
От чего и теперь не отказываюсь при первой встрече.
Но что пользы! если я ему и прострелю брюхо, все-таки его клевета останется без ответа. Где писать? в наших журналах нельзя, ибо запрещается говорить о запрещенных книгах. За границей? где? неужели послать в "Колокол"? Странное положение, в которое ставят нас цензурные постановления. Впрочем, Долгоруков прав: всякая полезная деятельность бывает смешна, ибо встречает препятствие, след неудачи, и всякая неудача смешна; над вредною деятельностью не смеются, но иногда ненавидят. Бездействием всегда возбуждается уважение, как калмыцкими идолами, факирами, браминами".
Итак, в замечаниях Одоевского князь Долгоруков безоговорочно назван составителем пасквиля. Утверждение Одоевского представляется нам особо авторитетным. Нужно сказать, что, несмотря на безутешный вывод о цензурных постановлениях, Одоевский не оставил мысли напечатать возражение на статью Долгорукова. В этой мысли укрепляли его и друзья, среди них С. Д. Полторацкий. Последний был "вне себя от негодования на гадость Петра Долгорукова", - записал Одоевский в своем дневнике 24 ноября 1860 года. Одоевский написал свое возражение. В его бумагах сохранился собственноручный черновик и переделанная писарем копия с новыми исправлениями автора. Воспроизвожу вторую редакцию статьи Одоевского.
"В одном безграмотном журнале, выходящем за границею, который, вероятно, в насмешку над всем русским присвоил себе название "Будущность", есть статья, где об'является во всеуслышание, что я, нижеподписавшийся, предан низкопоклонному, чрезмерному любочестию, а сверх того безделью и даже писанию плохих стихов. Этот журнал издается человеком, которого не хочу называть, ибо он бесславил свое, к сожалению, историческое имя. Доныне этот недоучившийся господин практиковался лишь по части сплетен, переносов анонимных подметных писем и действовал на этом поприще с большим успехом: от них произошли многие ссоры, семейные бедствия и, между прочим, одна великая потеря, которую Россия доныне оплакивает. Брань такого человека не стоит даже презрения; на его клевету ответ вся моя, скоро шестидесятилетняя, честная трудовая жизнь; кто ее хоть несколько знает, тому самый род порицания, избранный клеветником, покажется довольно странным. Был ли мой труд в пользу или без пользы, не мое дело судить; я не имел никогда поползновения к автобиографии, полагая, что она должна следовать лишь за некрологией. Но в статье этого господина есть клевета другого рода, более положительная; он рассказывает о моих сношениях с А. С. Пушкиным и с Д. В. Дашковым. Я не могу и не должен молчать в таком деле, где клеветник вмешал столь знаменитые, столь дорогие для России имена; пошлым анекдотам, насмешкам не поверит никто из тех, кто знает меня и помнит мои сношения с Пушкиным и Дашковым, но эта ложь без всякой протестации могла бы, пожалуй, когда-либо войти в биографии этих великих людей; - в подобных случаях долг литератора, как человека публичного, разоблачать хотя ради исторической истины, всякую клевету, из какого бы грязного болота она ни поднималась.
С Пушкиным мы познакомились не с ранней молодости (мы жили в разных городах), а лишь пред тем временем, когда он задумал издавать "Современник" и пригласил меня участвовать в этом журнале; следственно я, что называется, товарищем детства Пушкина не был; мы даже с ним не были на ты - он и по летам, и по всему был для меня старшим; но я питал к нему глубокое уважение и душевную любовь и смею сказать гласно, что эти чувства были между нами взаимными, что могут засвидетельствовать все наши тогдашние знакомые, равно мое участие в "Современнике", письма ко мне от Пушкина и проч. т. п.; после горькой его кончины я вместе с кн. П. А. Вяземским, В. А. Чуковским и П. А. Плетневым имел счастие быть редактором тех номеров "Современника", которых издание было предпринято нами для того только, чтобы исполнить обязанность великого поэта, как издателя - к подписчикам на его журнал. При такой обстановке дела анекдот, выдуманный бесчестным клеветником, и по времени, и по характеру наших отношений с Пушкиным, не мог существовать ни в каком виде и ни при каком случае.
С Дашковым я познакомился в 1827 году при начале моей службы и имел счастие тогда же получить от него три весьма важные работы, за которые, может быть, многие грехи мне простятся в сем мире; в числе их было между прочим: положение о правах авторской собственности в России, потом (почти без перемен) вошедшее в силу закона и дотоле не существовавшее в нашем законодательстве. Служба моя под начальством Дашкова длилась недолго, ибо он вскоре потом был сделан министром юстиции, а я оставался в министерстве внутренних дел, но приязненные отношения между нами не прекращались до самой кончины этого знаменитого государственного мужа. Награда, о которой упоминает клеветник в подтверждение своего вымысла, последовала гораздо дальше и была для меня совершенною неожиданностью. Следственно и анекдот обо мне с Дашковым есть также чистейшая ложь. Все это вымышлено клеветником (зачеркнуто: безнравственным негодяем) потому только, что после многих его бесчестных и бесчеловечных поступков более или менее тайных совершился один ужасный, в действительности которого уже не было ни малейшего сомнения, и тогда я запретил этого безнравственного негодяя пускать к себе в переднюю. "Inde ira".
Но статья Одоевского не появилась в печати, а 14 февраля 1861 года он записал в своем дневнике: "Полторацкий с известием, что моя статья против кн. Долгорукова не может здесь быть напечатана". Так имя Долгорукова и осталось неоглашенным до появления книжки Аммосова. Но свидетельство Одоевского определенно и авторитетно, и значение его невозможно снизить даже ссылкой на личную обиду, причиненную Долгоруковым Одоевскому*.
* (Три страницы по III изданию книги П. Е. Щеголева, посвященные процессу П. В. Долгорукова с кн. Воройцовым (слушался во Франции в 1852 г.), редакцией опущены.)
В заключение упомяну об одной шутке Долгорукова 1863 года, напоминающей его "шутку" 1836 года. В № 5 "Листка" (1863, янв., л. 39-40). Долгоруков напечатал статейку "Учреждение новых орденов". Начинается она так:
"Из Петербурга пишут, что наше мудрое правительство, по случаю вступления России во второе тысячелетие безурядицы, собирается учредить двое новых орденов, а именно: в награду лицам, известным и своею преданностью самодержавию и своими невысокими умственными способностями - орден Полосатого Осла; в награду благонамеренным писателям, которые порют дичь в защиту самодержавия - орден Дичи.
Пишут, что уже составлены списки кавалерам новых орденов, и что кавалерами ордена Полосатого Осла назначены: министры граф В. Ф. Адлерберг, князь В. А. Долгоруков и Прянишников; фельдмаршал князь Барятинский" и т. д. Долгоруков перечисляет несколько десятков имен сановников, жалуемых им в кавалеры ордена Полосатого Осла и ордена Дичи. Затем он назначает канцлера обоих орденов (Н. В. Елагина), вице-канцлера (Катакази), казначея; генерал-адьютанту Огареву он поручает составить форму орденов, а государственному секретарю В. П. Буткову составить уставы и т. д. Не правда ли, Долгоруков повторяет самого себя, и выдуманные им ордена Полосатого Осла и Дичи повторяют - орден рогоносцев?*
* (За границей неприятели Долгорукова выпустили литографию, на которой князь был изображен в больничной шапочке с ослиными ушами и с орденом Полосатого Осла. Литография имеется в собрании Пушкинского Дома. Воспроизведена в журнале "Огонек" (№ 42, 16 октября 1927) при моей статье "Кто писал анонимные письма Пушкину?".)
16
После судебного процесса, после распубликования Долгорукова, как участника в деле о пасквилях, в его деятельности наступает перелом. Он прекращает издание своих периодических публикаций и уходит в писание своих мемуаров - вернее, в записывание исторических анекдотов о главнейших деятелях XVIII века. Эта книга выходит под заглавием "Mémoires du prince Pierre Dolgoroukow" (Genève, 1867,t. I)*и вызывает блестящую статью Герцена "Новая Бархатная книга русских дворянских родов". Герцен заканчивает свою статью: "с нетерпением ждем второй части великого обличения и разоблачения нашей аристократической дворни и тогда разом Сделаем выписки из чрезвычайно интересных "Записок" кн. П. В. Долгорукова. Мы видели прадедов наших петербургских и московских матадоров, - взглянем на их дедов... и искренно просим автора поскорее познакомить с отцами".
* ("Воспоминания кн. Петра Долгорукова" (Женева, 1867, т. I).)
Второй части мемуаров Долгоруков не написал, и разрозненные материалы увидели свет после его смерти в издании... ни много, ни мало... самого III отделения*.
* (Об этой удивительной затее - в книжке Р. М. Кантора погоне " В погоне за Нечаевым".)
Характер его портился с каждым годом. Он всегда был ужасно горяч и невоздержан на язык, но по временам происходили необыкновенные взрывы гнева, и только Герцен действовал на него успокоительно и умел обуздывать самые дикие проявления его характера. Н. А. Тучкова-Огарева дает характеристику его, относящуюся к 1862 году; наружность князя была непривлекательна, несимпатична; в больших карих глазах виднелись самолюбие и привычка повелевать; черты лица его были неправильны, князь был небольшого роста, дурно сложен и слегка прихрамывал, почему его прозвали: bancal. Не помню, на ком он был женат, только жил постоянно врозь с женой и никогда о ней не говорил. Герцен не чувствовал к нему влечения, но принимал его очень учтиво и бывал у него изредка с Огаревым*".
* (Воспоминания Н.А. Тучковой-Огаревой, 1903, стр., 164.)
Поддерживая в печати Долгорукова как эмигранта, боровшегося с русским правительством, Герцен в переписке отзывался о нем с иронией, вроде: "князь Долгоруков едет в Лондон, в силу чего я ищу квартиру вне Лондона"; князь "Болдорукий" или князь "Перд" Владимирович или просто Петр IV. Но, наконец, и Герцен не выдержал. 20 декабря 1867 года он писал Тургеневу: "для утешения скажу на закуску, что Долгоруков все пакостничает, а потому я прервал дипломатические сношения (только все же он не крал, как Некрасов, и не посылал доносами на виселицу, как Катков). А в мае 1868 года Герцен убеждал Огарева: "не давай призу Долгорукову, чтоб он стал дерзок; обделай тихо и отклони его "благомудро"; если нужно, напиши учтиво, что ведь общего у нас нет с ним, что ряд размолвок должен был привести к охлаждению... Наконец, что ни ты, ни я ничего не хотим, кроме тихой руптюры". Но когда "князь Гиппопотам" стал помирать и попросил Герцена приехать к нему, Герцен не отказал ему в этой просьбе, Герцен был свидетелем его агонии. "Ничего ужаснее не выдумывал ни один трагик. Может быть, когда-нибудь я напишу эту смерть", - писал он Тургеневу. Герцен не описал смерти Долгорукова, но некоторые подробности находим в его письмах к Огареву. "Лицо Долгорукова совершенно осунулось и стало как-то важнее. Говорит несвязно, глаза потухли; он не знает близости конца, но боится. А главное, внутри его идет страшная передряга". 17 августа 1868 года Долгоруков умер. Герцен помянул его совсем кратким некрологом.
17
Враги Пушкина... Их было много в высшем свете. Мы не задавались целью пересчитать их. Мы отметили тех, кто был наиболее активен, кто перевел чувство злобного недоброжелательства к Пушкину в действие против него. От низин идут физические исполнители. Они примыкают к патологическому на сексуальной почве коллективу, группирующемуся вокруг Геккерена. Спаянные общими вкусами, общими эротическими забавами, связанные "нежными узами" взаимной мужской влюбленности, молодые люди - все высокой аристократической марки - легко и беспечно составили злой умысел на честь - потом оказалось - и на жизнь Пушкина. К их гнусной забаве с одобрительным поощрением относились старшие представители - все эти графини Софьи Б., m-me Н... И на вершинах - законодательница высшего света графиня М. Д. Нессельроде; конечно, ее должно отнести к "надменным потомкам известной подлостью прославленных отцов". И много их там, "стоящих жадною толпой у трона". Против Пушкина было сплоченное большинство. И наконец сам монарх.
Пушкин был чужеродным элементом в организме высшего слоя общественного класса, к которому он принадлежал по своему рождению, и чужеродный элемент медленно, но неуклонно извергался организмом. И в Пушкине происходил неосознанный им процесс деклассирования. Было одно основное отличие, которое недостаточно оценивалось при рассуждениях о классовом самосознании Пушкина. Материальная база жизни Пушкина коренным образом отличалась от материальных баз всего дворянства. Он не жил на крепостные доходы, на крестьянские оброки; он не жил и на жалованье. Единственный приход, обеспечивавший, правда, не в достаточной степени, существование его и его семьи, состоял в авторском гонораре. В тридцатых годах, с таким заработком, Пушкин был белой вороной среди всех своих друзей, среди своего общества. Недаром иностранные наблюдатели, дипломаты, выражаясь в привычных терминах, говорили, что Пушкин не имел успеха в высшем классе и принадлежал "третьему" сословию. "Особенно спешили, - говорит один из таких наблюдателей, - рукоплескать чиновники, многочисленный класс, являющийся в некотором роде третьим сословием в России; они создают апофеоз человеку, произведения которого являются выражением их собственных чувств. С самого начала, и, быть может, бессознательно, Пушкин рассматривался и признавался ими, как представитель оппозиции". Виртембергский посланник граф Гогенлое-Кирхберг, автор этих слов, определял положение Пушкина вернее и правильнее его друзей: друзья отдавали Пушкина, присвоивали его целиком государю. Но сам Николай не был убежден ни в искренности, ни в нужности такого усвоения.
|
ПОИСК:
|
© A-S-PUSHKIN.RU, 2010-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'