
"Судьба с неведомым известьем..."
"Медный всадник" был написан в октябре 1833 года в Болдине.
Весь болдинский урожай на этот раз был назначен Александру Филипповичу Смирдину, давнему деловому партнеру, который с 1834 года открывал "Библиотеку для чтения" - первый в России "толстый" журнал энциклопедического характера. Пригласив в редакторы О. И. Сенковского (Барона Брамбеуса), Смирдин оставил за собой переговоры с авторами: он - также впервые - установил твердый и вместе гибкий гонорарный принцип. Рядовые сотрудники получали по 200 рублей за лист оригинального текста, по 70 - за лист переводного. Авторские ставки Пушкина, Крылова, Дениса Давыдова и некоторых других писателей (которым выплатили по тысяче рублей за право объявить их имена на обложке журнала) были значительно выше и оговаривались отдельно.
Начинался "смирдинский", или "торговый", период русской словесности.
Декабристу Александру Бестужеву, воевавшему на Кавказе и снискавшему литературную славу под псевдонимом А. Марлинский, Смирдин предложил 300 рублей за лист прозы. Бестужев затребовал 500; в итоге они сошлись на 5000 в год за 12 листов.
Пушкин тоже выставил жесткие условия. В начале декабря 1833 года, после встречи с Пушкиным, Смирдин жаловался Василию Дмитриевичу Комовскому, просвещенному чиновнику и литературному агенту поэта Языкова: "...за эти три пьески, в которых-де трех печатных листов не будет, требует Александр Сергеевич 15 000 руб.!" Комовский запомнил два названия - "Медный всадник" и "Холостой выстрел", "одна из этих пьес прозой, другая в стихах" (91, 538). "Холостой выстрел" - это "Пиковая дама", напечатанная в мартовской книжке "Библиотеки для чтения" за 1834 год; третья же "пьеса", о которой шел разговор,- "Анджело" (весной 1834 года она увидела свет во второй части смирдинского альманаха "Новоселье").
Сговариваясь о своем ближайшем участии в "Библиотеке для чтения", Пушкин предполагал узаконить уже сложившийся порядок вещей, при котором он не "беспокоил" Николая I - своего "единственного цензора" - по поводу каждой публикации. 6 декабря 1833 года, препровождая на высочайшее рассмотрение рукопись "Медного всадника", Пушкин писал А. X. Бенкендорфу: "Книгопродавец Смирдин издает журнал, в коем просил меня участвовать. Я могу согласиться только в том случае, если он возьмется мои сочинения представлять в ценсуру и хлопотать об них на ровне с другими писателями, участвующими в предприятии; но без Вашего сведения я ничего не хотел сказать ему решительно" (XV, 97-98). Одновременно - уже вне связи с текущими журнальными делами - Пушкин испрашивал разрешения представить государю "Историю Пугачева".
12 декабря Бенкендорф в личной беседе уведомил Пушкина о том, что его произведения, намеченные для смирдинского журнала, могут цензуроваться на общих основаниях; было сообщено также о согласии Николая I прочитать "Историю Пугачева". Во время этой аудиенции Пушкин получил обратно рукопись "петербургской повести".
Девять карандашных помет, сделанных Николаем I, хорошо различимы (3, 66-68; 81, 522-523).
Вычеркнуто четыре стиха из Вступления: И перед младшею столицей Померкла старая Москва Как перед новою царицей Порфироносная вдова;
трижды подчеркнуто, отчеркнуто на полях и сопровождено значками "N3" и "?" слово "кумир" (Кумир на бронзовом коне...- Кумир с простертою рукою...- Кругом подножия Кумира...):
подчеркнуты и отчеркнуты на полях стихи: Во мраке медною главой, Того, чьей волей роковой;
подчеркнут стих: Россию поднял на дыбы?, который вместе с тремя предшествующими (О мощный властелин Судьбы! Не так ли ты над самой бездной На высоте уздой железной...) отчеркнут на полях и сопровожден значком "N3";
подчеркнуты и сопровождены значком "N3" словосочетания Горделивым истуканом и строитель чудотворный.
Наконец, отчеркнуты на полях пятнадцать строк:
"Добро, строитель чудотворный! - Шепнул он, злобно задрожав,- Ужо тебе!.." И озарен луною бледной, Простерши руку в вышине, За ним несется Всадник Медный...
14 декабря Пушкин записал в дневник: "Мне возвращен Медный всадник с замечаниями государя. Слово кумир не пропущено высочайшею ценсурою; стихи
И перед младшею столицей <...>
вымараны. На многих местах поставлен (?),- все это делает мне большую разницу. Я принужден был переменить условия со Смирдиным" (XII, 317).
Исследователи, анализировавшие пометы на пушкинской рукописи, сходятся в главном: Николай I обнаружил "восстание" ничтожного героя против "виновника" его несчастий (4, 221); он угадал, что поэма может звучать "не как апофеоз самодержавия, а как оправдание восставшей личности" (13, 364). Однако подобное восприятие "Медного всадника" свойственно более поздней эпохе, когда мотивы и образы "петербургской повести" сложились в обобщенно-символическую картину. Люди же 30-х годов ощущали не метафорический уровень поэмы, а ее злободневный смысл. Описание петербургского потопа и его последствий непосредственно выводило читателей к дискуссиям 20- 30-х годов о "древней" и "новой" России.
Четыре строки, удаленные "высочайшим цензором" из текста Вступления, напоминали об утраченном старшинстве Москвы в столичном чине. Эта тема весьма занимала Пушкина в середине 30-х годов. "Упадок Москвы есть неминуемое следствие возвышения Петербурга,- писал он в "Путешествии из Москвы в Петербург" (начатом как раз болдинской осенью 1833 года).- Две столицы не могут в равной степени процветать в одном и том же государстве, как два сердца не существуют в теле человеческом" (XI, 247). В "Медном всаднике" противопоставление "младшей столицы" и "старой Москвы" было заострено аналогией с августейшими особами. Это само по себе выглядело неуместным; к тому же, титулуя Москву "порфироносной вдовой", Пушкин воспользовался лексиконом анти-петербургских сочинений, хорошо известных современникам поэта, но до нас дошедших далеко не в полном объеме.
Вот, к примеру, стихотворение одного из студентов Петербургского университета, много позже извлеченное из его тетради. Написано оно почти одновременно с пушкинской поэмой (и, разумеется, совершенно независимо от нее); самое любопытное, что автор этого опуса - в будущем глава западнического кружка 40-х годов, профессор Московского университета Тимофей Николаевич Грановский.
МОСКВА
Прекрасна ты в одежде вековой, Царица-мать земли моей родной. Как гроб костей, ты дел былых полна; Но где ж они, кем ты была сильна? Державный град на севере стоит; У ног его седое море спит; Порой оно подъемлет голос свой И берег бьет широкою волной. Но дивный град стоит неодолим И море вновь стихает перед ним. Когда б взглянул на ряд гробов твоих, На ветхий Кремль, на сонм церквей святых, То со стыда в нерусскую Неву Венчанную сокрыл бы он главу! Прекрасна ты в одежде вековой, Царица-мать земли моей родной!
(178, 27)
Николай I, возможно, уловил общую "политическую подоснову" четырех пушкинских строк и тех толков о неестественном местоположении императорской резиденции, которые возобновились после наводнения 1824 года (44, 167).
Уже в ноябре 1824 года в столице наделали много шума куплеты Александра Ефимовича Измайлова, написанные на следующий день после потопа и перепевавшие его давнее стихотворение "Опасность от воды".
Бог вздумал грешных наказать, И Петербург вода покрыла. Вот это может доказать, Сколь пагубна ее нам сила. Такой бы не было беды И с грешниками без воды. В этажах нижних, в погребах Рыданья, стоны раздаются, И в мутных яростных волнах Бочонки, кадочки несутся. Такой бы не было беды В этажах нижних без воды. <...> Большие лодки там плывут, Где прежде все пешком ходили - Где тротуар - по горло тут! Колоды, бутки, дамы плыли! Такой бы не было беды Здесь в Петербурге без воды...
(163, 267-268)
Торжественный канон невской столице ("где прежде - там теперь") иногда невольно пародировался горожанами, пытавшимися выразительно передать масштабы бедствия: "Все улицы, когда вода сбыла, покрыты были ломом,- а на Васильевском острове и Петергофской дороге проезду не было - там, где были домы, там сделались площади, где были площади, туда принесло домы" (149, 243). Но Измайлов сознательно каламбурил, и не случайно его куплеты крайне раздражили столичного генерал-губернатора М. А. Милорадовича. Спустя две недели после наводнения Измайлов писал П. Л. Яковлеву: "Теперь только пробило 5 часов, а я не сплю уже с лишком час; сижу один в гостиной не за столиком на софе, но в креслах перед столиком против софы и портрета Петра Великого. Ах! Петр Великий! Петр Великий! Зачем построил ты столицу на таком низком месте? Взгляни-ка на Петербургскую сторону, на Галерную гавань и полюбуйся! Что? А?.. Молчит, не отвечает ни слова: видно, что виноват" (233, л. 56).
Обиходный столичный оптимизм уступал место беспокойству. "Нас пугает,- писал Г. С. Батеньков своим московским друзьям Елагиным,- всякое едва приметное возвышение воды, пугает туман, слабый ветер, а более всего пугает, как детей, ежедневная смена дня ночью. Петербург и его окрестности лишились многих своих красот, и, вместо беспрерывного улучшения, с 7 ноября началась для сего города епоха возобновления, и оно, конечно, много лет должно продолжаться".
Другое письмо, посланное в те дни из Петербурга, завершалось элегическим сетованием: "Рассказывая об этом происшествии, поневоле задумываешься о бренности человеческой жизни... Поле для размышлений здесь обширное, но сколько ни размышляй, это не помешает нам рано или поздно оказаться под водой. Поскольку я не умею плавать как рыба и мне далеко до госпожи Акулы и до господина Кита, то в этом случае мне придется навсегда проститься с тобой, с моими пенатами, с моими книгами" (149, 245).
Ощущение бренности бытия, бессилия любой земной мощи перед вызовом судьбы владело императором Александром I, вступившим в последний год своего царствования. Реплика, которую он произносит в "петербургской повести" ("С Божией стихией царям не совладать"), соответствует его словам в письме Н. М. Карамзину от 10 ноября 1824 года: "Воля Божия: нам остается преклонить главу перед нею". Эти слова приведены в письме Карамзина И. И. Дмитриеву от 8 декабря 1824 года и могли быть известны Пушкину в устной передаче друзей - например, Вяземского (44, 168), но любопытно, что такую же сентенцию находим и в письме рядового очевидца наводнения, размышляющего о несчастном жребии Александра I. Эллинист И. И. Мартынов писал другу:
"Для чего бы сему усмирителю Европы, укротителю сильнейшего врага, возмущавшего толико лет человечество, не иметь чудодействия: попрать и сих лютейших истребителей всего тленного, укротить бурные воды и обуздать ветры сокрушительные? Нет! Бог славы своея иному не даст. Не во власти наместников его повелевать стихиями" (80, 137)*.
* (Документальные свидетельства о наводнении 1824 года впервые собраны в книге П.П.Каратыгина (95, 33-84). Круг материалов, представляющих непосредственный интерес для изучения "Медного всадника", более или менее очерчен в работах Г. М. Ленобля (114) и Н. А. Рябининой (184), а важнейшие документы были недавно переизданы Н. В. Измайловым (4, 103-124). См. также публикацию (149, 242-247).)
За этими - и многими им подобными - высказываниями стоит обширная историко-философская традиция (44, 165-167), которая своеобразно преломлялась на бытовом уровне. "Задолго до славянофильства", вспоминал П. А. Вяземский, графиня Анна Петровна Толстая "дала себе удовольствие проехать мимо памятника Петра и высунуть перед ним язык". Московскому профессору и цензору Н. И. Крылову случилось как-то (дело было уже позже, в 40-е годы) мрачным и промозглым днем ехать по Петербургу с жандармским генералом Л. В. Дубельтом. "Проезжая по Исаакиевской площади, мимо монумента Петра Великого, Дубельт, закутанный в шинель и прижавшись к углу коляски, как будто бы про себя говорит: Вот бы кого надо высечь, это Петра Великого за его глупую выходку: Петербург построить на болоте" (157, 417).
Четыре строки из Вступления связывались таким образом с ключевой сценой "петербургской повести (слова Евгения, обращенные к Медному всаднику, и бегство героя от преследующей его статуи). Претензии Николая I к этому фрагменту изложил в своих записках Николай Михайлович Смирнов, один из первых читателей пушкинской поэмы.
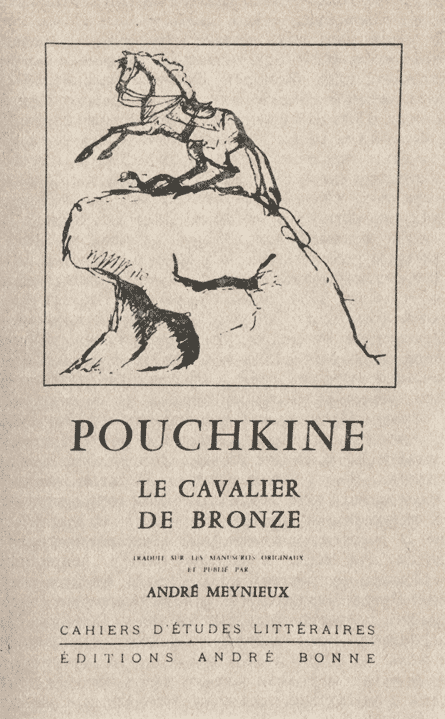
Рисунок Пушкина в черновой рукописи 'Тазита'. Обложка парижского издания 1959 г. (перевод А. Менье)
Пушкин довольно коротко (на "ты") сошелся со Смирновым в 1832 году, после его женитьбы на фрейлине Александре Осиповне Россет ("черноокой Россети"): на этой свадьбе поэт был шафером. Избрание Смирнова в члены столичного Английского клуба Пушкин отметил в своем дневнике: "Это, впрочем, делает ему честь - он не министр и не обер-полицмейстер. И знак уважения к человеку частному должно быть ему приятно" (XII, 323). Смирнов был, что называется, на виду и, оставаясь "добрым малым", хотя и недалеким, постепенно шел в гору (позднее он стал губернатором в Калуге, затем в Петербурге).
В своих отрывочных записках, относящихся к ноябрю - декабрю 1834 года, Смирнов коснулся взаимоотношений поэта с Николаем I. "Сердится также иногда и Пушкин за непропуск некоторых слов, стихов, но по воле высшей переменяет слова и стихи, без всякой, впрочем, потери для себя и публики. Не знаю почему, только, верно, из каприза лишает он в сию минуту нас поэмы "Медный всадник" (монумент Петра Великого), ибо те поправки, которые царь требует, справедливы и не испортят поэму, которая, впрочем, слабее других. Я видел сию рукопись; Пушкин заставляет говорить одного сумасшедшего, грозя монументу: "Я уж тебя, истукан"; государь не пропускает сие место вследствие и очень справедливого рассуждения: книга печатается для всех, и многие найдут неприличным, что Пушкин заставляет проходящего грозить изображению Петра Великого, и за что, за основание (города) на месте, подверженном наводнениям. Государь, зная, что Пушкин очень знаком с женою (бывшею тогда еще моею невестою в 1831 году), часто говорит с нею об нем и передает свои мнения через нее. Он прислал ей сей манускрипт с своими замечаниями, и точно, все были дельные..." (37, 7).
Смирнов искренне уважал таланты Пушкина, но еще более - взгляды государя. Впрочем, передавая мнение Николая I, высказанное в разговоре с А. О. Смирновой, он допустил фактическую неточность. 12 декабря 1833 года пушкинскую рукопись возвращал Бенкендорф, так что высказывание Николая I о "Медном всаднике" Смирнова слышала при каких-то иных обстоятельствах. Пометы же государя мог показать Смирновым только сам Пушкин: и как раз 14 декабря 1833 года, когда в его дневнике сделана запись о "высочайшем чтении" поэмы, он нанес визит в этот дом (XII, 317).
Предание о тесной прикосновенности Смирновой к созданию и судьбе "петербургской повести" впоследствии культивировала ее дочь. В поддельных "Записных книжках" А. О. Смирновой, составленных О. Н. Смирновой, находим, например, такой эпизод: ""Искра" <Пушкин> принес мне поэму "Медный всадник". Он уже написал несколько строф. Он напомнил мне один вечер и видение, как Петр Великий скачет по петербургским улицам. Я нашла описание наводнения превосходным, особенно начало - думы Петра на пустынных берегах Невы. Когда я высказала Пушкину мое восхищение, он улыбнулся и грустно спросил: "Вы, значит, находите, что в моей гадкой голове есть еще что-нибудь?""
Но вернемся к "высочайшему" суждению о "Медном всаднике". В пушкинской поэме выведен "один сумасшедший", который оскорбляет память великого Петра; здесь нет конфликта (и тем более бунта), есть "неприличные" выходки. И Николай I потребовал, чтобы из текста поэмы, которая "печатается для всех", был снят "бессмысленный" упрек Петру, основавшему столицу "на месте, подверженном наводнениям".
На рукописи "Медного всадника", вернувшейся к автору, отсутствует резолюция. Деталь, которая теперь кажется маловажной: по общему мнению, замечания Николая I повлекли за собой "если не формальное, то фактическое запрещение" поэмы (4, 219).
Но казуистический нюанс, повторим пушкинское выражение, "делает большую разницу". Смирнов проявил, конечно, замечательную эстетическую наивность, говоря, что Пушкин, "верно, из каприза" отказывается исправлять свою поэму; но как бы то ни было, право на ее публикацию - пусть в урезанном виде - у автора сохранялось.
Между тем Пушкин не мог не сознавать, что у "петербургской повести" вряд ли был шанс пройти через общую цензуру. Недаром Смирнов специально оговорил: "...цензор был бы еще строже царя" (37, 7). После того, как в марте 1833 года министром народного просвещения стал С. С. Уваров, резко ужесточивший контроль над литературой, цензоров обязали выискивать подвохи и намеки. И можно предположить, что сакраментальный эпизод из второй части ("Ужо тебе!..") сам по себе повлек бы запрещение поэмы.
Похоже, что, подавая Николаю I рукопись "Медного всадника", Пушкин имел в виду не только публикацию поэмы в первом же номере "Библиотеки для чтения". Мечтая избавиться от "высочайшей цензуры", стеснявшей его литературное существование, он в данном случае обдуманно предпочел "царя" - "псарю". Расчет, наверное, был сделан на то, что Николай окажется не столь внимательным, не столь подозрительным, не столь мелочным, как запуганный Уваровым цензор. Вот, скажем, такая деталь. В примечаниях к поэме Пушкин говорит о Мицкевиче, который "прекрасными стихами описал день, предшествовавший петербургскому наводнению". Николай I не обратил внимание на это место (возможно, он и не заглядывал в примечания), но цензора могла бы насторожить ссылка на Мицкевича, имя которого было в то время полузапретным (9, 25-26, 468).
Николай I "оправдал" далеко не все надежды Пушкина. Но и не отнял их полностью. Другое дело, что Пушкин не входил в подробности, когда касался этой темы на бумаге. Впрочем, в его переписке всего три упоминания о "петербургской повести". В середине декабря 1833 года извещен П. В. Нащокин: "...Медного всадника ценсура не пропустила. Это мне убыток" (XV, 99). К тем же выражениям Пушкин прибегнул в письме Нащокину от конца марта 1834 года: "Медный всадник не пропущен - убытки и неприятности..." (XV, 118). 7 апреля 1834 года с оказией было послано письмо М. П. Погодину: "Вы спрашиваете меня о Медном всаднике, о Пугачеве и о Петре. Первый не будет напечатан" (XV, 124).
Оба эти адресата - москвичи, с которыми Пушкин не виделся с середины ноября 1833 года; возвращаясь из Болдино, он несколько дней провел в старой столице. Провел почти затворником. Его "монополистом", по выражению М. А. Максимовича, был Нащокин, у которого, на Остоженке, поэт квартировал; Пушкин, посвященный в сердечную смуту своего друга, склонял его жениться вторично. (Простодушный Петр Васильевич Киреевский объяснял Языкову, что Пушкин в этот приезд сторонился людей, ибо "ехал с бородою, в которой ему хотелось показаться жене".)
Нащокин позднее рассказывал, что Пушкин читал ему в Москве "Пиковую даму"; именно тогда познакомился он и с "Медным всадником". Из всей же московской "пишущей братии", которая в ноябре 1833 года так и не "поживилась" Пушкиным и его "уральским златом" (194, кн. 4, 198), повезло, по всей вероятности, только Погодину.
В Болдино Пушкин жил в полном уединении; в Москву он выехал 9 ноября. Нащокин и Погодин, таким образом,- первые читатели (или слушатели) его "петербургской повести".
А в Петербурге Пушкин как будто не спешил знакомить друзей со своими новыми вещами. Не исключено, что именно 14 декабря он показал рукопись "Медного всадника" Смирновым. Но об этом можно лишь догадываться. Известные же факты - другого рода.
В конце декабря, через месяц после приезда Пушкина в столицу, Гоголь отвечал М. А. Максимовичу, собиравшему материал для очередного тома альманаха "Денница": "Я говорил Пушкину о стихах. Он написал путешествуя две большие пиесы, но отрывков из них давать не хочет, а обещался написать несколько маленьких..." Об "Анджело" и "Медном всаднике" здесь говорится явно понаслышке; да и о видах Пушкина на "Библиотеку для чтения" Гоголь не упоминает.
23 декабря 1833 года Вяземский сообщал Ивану Ивановичу Дмитриеву (обиженному на Пушкина, который "не удостоил" старого поэта "свиданием" в Москве): "Пушкин привез с собою несколько тысяч новых стихов, в двух или трех маленьких поэмах, и поделится с нами своею странническою котомкою". Среди других литературных новостей, о которых уведомлял Вяземский,- скорое "пришествие нового журнала Смирдина", шумный успех "Фантастических путешествий" Барона Брамбеуса и, наконец, расторопность поэта и драматурга Егора Федоровича Розена. "Государь был очень доволен трагедиею барона Розена "Россия и Баторий". Желая видеть ее на сцене, требовал он некоторых перемен, и Розен уже перекроил трагедию свою на новый лад. Вот что значит немецкое трудолюбие!"
Не все, о чем мог рассказать Вяземский, ложилось в письмо. Он и Жуковский, по всей вероятности, знали о том, что государь ознакомился не только с драмой Розена, но и с "петербургской повестью" Пушкина. Однако до конца 1833 года "Медный всадник" так и не известен пушкинскому кругу.
4 января 1834 года Вяземский писал А. И. Тургеневу в Италию: "Поздравляю тебя с наступлением нового года нашего, разродившегося - знаешь чем? Вечно не отгадаешь! Камер-юнкерством Пушкина. Он возвратился из степной поездки своей и навез много стихов, которых я еще не читал, в ожидании чтения у Жуковского" (150, т. 3, 253).
К Жуковскому на "олимпический чердак" в Шепелевском дворце сходились по субботам Владимир Федорович Одоевский, Петр Александрович Плетнев, Гоголь, братья Михаил и Матвей Юрьевичи Виельгорские; бывали Крылов, усердный Розен (которому хозяин помогал переделать пьесу "Россия и Баторий" в "Осаду Пскова"), сыновья Карамзина - Андрей и Александр, чета Смирновых и другие.
Не сохранилось никаких сведений о чтении "Медного всадника" в этом обществе. У Пушкина, конечно, были причины воздержаться от публичного чтения поэмы, вызвавшей высочайшие нарекания: в 1826 году он получил строгий выговор от Бенкендорфа за то, что читал "Бориса Годунова" до того, как представил трагедию царю.
Можно только предполагать, что в начале 1834 года "петербургская повесть" стала известна ближайшим друзьям. Тем, кому она прежде всего адресовалась.
Была ужасная пора... Об ней начну повествованье И будь оно, друзья, для вас Вечерний, страшный лишь рассказ, А не зловещее преданье...
В конце января 1834 года Николай I разрешил печатать "Историю Пугачева". "Историю господина Пугачева", как выразился Жуковский, который к 29 января уже прочел эту рукопись.
Высочайшее чтение "Медного всадника" совпало с "эмблематической" реформой, которая прямо касалась памятника Петру I. 30 ноября 1833 года Пушкин записал: "...при открытии Александровской колонны, говорят, будет 100 000 гвардии под ружьем" (XII, 316).
Фальконетов монумент увековечил наравне с Петром I - Екатерину II.
Когда б устроил бог, творец земного чина, Чтоб ранее Петра жила Екатерина, В то время бы сия предивная гора Екатерину нам являла, не Петра.
Эти стихи Д. И. Хвостова, написанные в 1782 году, любопытны своей неоригинальностью, безусловной верностью устойчивому канону, который искал уже европейского распространения. Десятилетием спустя, в 1793 году, в одном из петербургских журналов был напечатан перевод латинской "надписи", сочиненной "в Германии Гиртбергских училищ Ректором Карлом Лудовиком Бауэром":
Разверзнем убо нутрь, о граждане, земную, И равного и Ей подножия поищем: Поверьте, сыщется подобная скала, На коей равное Петру Екатерины Изображение священно вознесется.
Именно идея "равновеликости" Петра и Екатерины была враждебна сознанию Николая I, который от своих родителей - Павла I и императрицы Марии Федоровны - воспринял глубокую неприязнь к бабке. Это не было тайной для подданных. "При Николае,- вспоминал позднее П. И. Бартенев,- похвала ей <Екатерине II> чуть не возбуждала цензурных преследований, и современные портреты, изображающие сцены ее возведения на престол, были нарочно вынесены в заднее помещение одного из петербургских зданий" (226, л. 80 об.). Вкусам царя особенно потрафил военный историк А. И. Михайловский-Данилевский: его сочинение, посвященное кампании 1799 года, граф С. Г. Строганов назвал холопским, "написанным с целью унизить Екатерину II".
Николаю I вообще претила вызывающая неупорядоченность русской истории XVIII века. Профессор К. И. Арсеньев, занимавшийся с наследником (будущим Александром II) историей, получил твердую инструкцию: "Русскую преподавать до Петра, а с Петра я сам буду учителем" (191, 202).
"Сменить" Фальконетов монумент - заодно со сподвижниками Екатерины - хотел еще Павел I: в 1800 году он приказал установить перед своей новой резиденцией, Михайловским дворцом, конную статую Петра (работы Б.-К. Растрелли), некогда отвергнутую Екатериной.
Недолгий фавор не прибавил, впрочем, этой статуе сколько-нибудь популярности: из русских писателей, кажется, только Андрей Белый (в романе "Петербург") нашел доброе слово для этого несчастливого создания: "...проезжие посетители Петербурга этой статуе не уделяют внимания <...> великолепная статуя!"
Николай I не унаследовал сумасбродства своего отца, и демаршей, могущих напомнить о фамильной розни, он не предпринимал. Фасад империи подновлялся аккуратно; сохранялось, в частности, описательное клише, заученное наизусть уже целым поколением. "Перед Сенатом возвышается генияльное произведение Фальконета, монумент, равно достойный того, кому воздвигнут, и той, кем воздвигнут" (22, 128).
Замысел государя был тоньше. В начале 1830-х годов была затеяна постройка грандиозного памятника Александру I, которая растянулась на несколько лет.

Этьен-Морис Фальконе. 1716-1791
В октябре 1831 года начинающий литератор И. В. Росковшенко, только что перебравшийся в столицу из Харькова, сообщал своему другу: "Да, здесь будет воздвигнут памятник Александру Павловичу перед Зимним дворцом; он будет состоять из колонны гранитной; эта ужасная громада имеет в диаметре 12 футов, а в вышину 84 фута. <...> Нынешний государь чрезвычайно украшает Петербург огромнейшими зданиями, каких в Москве нет, и, я думаю, нигде" (181, 481).
Москва помянута здесь вскользь, но не случайно. Некогда равных не было московской колокольне Ивана Великого, и закладка (в 1768 году) Исаакиевского собора вызвала болезненную реакцию многих русских дворян. Журнал "Живописец", который издавал Н. И. Новиков, опубликовал пародийные "Письма уездного дворянина" (к сыну Фалалею): негодование этого персонажа распространялось и на новую "питерскую" затею. "Колокольню строют и хотят сделать выше Ивана Великого, статошное ли это дело; то делалось по благословению патриаршему, а им это как сделать". Александровская колонна еще выше, чем Исаакиевский собор, возвышала Петербург над Москвой.
29 августа 1832 года на Дворцовой площади была воздвигнута гранитная скала, доставленная из Финляндии. В многолюдной толпе, созерцавшей зрелище, находились восемнадцатилетний Лермонтов (приехавший в Петербург продолжать учение) и Вяземский, который за месяц до того соблазнял Дмитриева: "Нам обещают новую оду Хвостова на сооружение колонны <...>. Вот, ваше высокопревосходительство, приезжайте на этот праздник, т. е. не на оду, а на колонну". В сентябре Вяземский послал Дмитриеву гостинец - "историческую щепочку из подмостка, разодранного Колонною, когда тащили ее и ставили".
30 августа 1834 года (в день именин Александра I) с чрезвычайной помпезностью состоялось открытие колонны. Два года не иссякал поток славословий - в стихах и прозе - по поводу самого высокого сооружения в мире (47,5 метра против 46,5 - Вандомской колонны в Париже), и осенью 1834 года он вышел из берегов. В виду Александровской колонны сработала одическая инерция полувековой давности. Николай I принял позу, в которой изображалась Екатерина II в 1782 году. А сама колонна, как и Фальконетов монумент, восславляла обоих:
Сей памятник огромный горделивый Благословленному поставлен был И Николая век счастливый Собою сам ознаменил.
Ивану Сергеевичу Тургеневу, автору этого стихотворения, было тогда шестнадцать лет, и он чутко воспринимал злободневные мотивы.
Официальный же отчет о празднике открытия заключал в себе новую идеологическую программу. "Воспоминание о торжестве 30-го августа 1834 года", появившееся 8 сентября в "Северной пчеле", принадлежало перу Жуковского, воспитателя наследника.
"Чему надлежало совершиться в России, чтобы в таком городе, такое собрание народа, такое войско могло соединиться у подножия такой колонны?.. Там, на берегу Невы, подымается скала, дикая и безобразная, и на той скале всадник, столь же почти огромный, как сама она; и этот всадник, достигнув высоты, осадил могучего коня своего на краю стремнины; и на этой скале написано Петр, и рядом с ним Екатерина; и в виду этой скалы воздвигнута ныне другая, несравненно огромнее, но уже не дикая, из безобразных камней набросанная громада, а стройная, величественная, искусством округленная колонна <...> и на высоте ее уже не человек скоропреходящий, а вечно сияющий ангел, и под крестом сего ангела издыхает то чудовище, которое там, на скале, полураздавленное, извивается под копытами конскими <...>. И ангел, венчающий колонну сию, не то ли он знаменует, что дни боевого создания для нас миновались <...> что наступило время создания мирного; что Россия, все свое взявшая, извне безопасная, врагу недоступная или погибельная, не страх, а страж породнившейся с ней Европы, вступила ныне в новый великий период бытия своего, в период развития внутреннего, твердой законности, безмятежного приобретения всех сокровищ общежития..."
Дикому, героическому периоду русской истории отныне надлежало контрастно оттенять современное цивилизованное величие империи. И не "безобразная" скала, но Александровская колонна стала эмблемой столицы.
Статья эта, в своих выводах удовлетворявшая прагматическим целям Николая I,- плод серьезных раздумий Жуковского. Он был искренне убежден в том, что в новейшей русской истории проведена четкая грань между двумя периодами: войны и мира. В первом свершались "дела славы"; второй, наступивший после разгрома Наполеона, требует "дел правды". Все необходимые победы, писал Жуковский в 1842 году, Россия уже одержала, и лучше существующих границ "выдумать ей невозможно". Двигателем же русской истории теперь должен быть "тихий ход благотворящей правды" (78, 362).
Пушкину была чужда вся эта умозрительная концепция, выдвигавшая "безмятежное общежитие" как идеал русской жизни. Именно петровский замах, который казался Жуковскому губительным для современных условий, он хотел найти в Николае I. "Обаяние торжествующей силы" имело власть над Пушкиным, и, конечно, статичная колонна, увенчанная ангелом, проигрывала в его глазах творению Фальконета.
Ужасен он в окрестной мгле! Какая дума на челе! Какая сила в нем сокрыта!
Декретированная перемена так и не воспоследовала. Очень скоро обнаружилось, что Александровская колонна - всего только новый монумент, украсивший столицу, а Медный всадник - по-прежнему ее символ, "самое замечательное чудо чудесного Петербурга" (151, 230).
Архитектурное новшество не одобрила Анна Петровна Толстая, которая накрепко запретила своему кучеру появляться около колонны: "Неровен час, свалится она с подножия своего".
Подобно неудачливому претенденту, не выдержавшему конкуренции, Александровская колонна стала объектом насмешек: нередко - злых, а иногда и несправедливых. Художник Л. М. Жемчужников, например, уверял, что "ангел оказался с трех сторон без головы, которая видна лишь из дворца".
В середине 40-х годов получила известность рискованная шутка профессора университета В. С. Порошина: "Столб столба столбу".
Непосредственную реакцию выказала разве что Надежда Андреевна Дурова, доверчивая кавалерист-девица: "Вид памятника Александру заставил меня горестно всплеснуть руками, с невыразимой печалью смотрела я на колонну и ангела с крестом" (87, 398).

Ф. Руссло. Иллюстрация к парижскому изданию 1979 г. (перевод Л. Швейцер)
В России дышит все военным ремеслом И ангел делает на караул крестом.
По обыкновению, эту эпиграмму приписали Пушкину*.
* (Литературные отклики на строительство и открытие Александровской колонны рассмотрены в книге М. П. Алексеева (12, 65-75). Р. О. Якобсон предполагает, что петушок на спице в пушкинской сказке 1834 года, возможно, является иронической аллюзией орла на Тарутинской или ангела на Александровской колонне (223, 28).)
29 августа 1834 года его не было на Дворцовой площади: "...выехал из П<етер>б<урга> за 5 дней до открытия Александровской колонны, чтоб не присутствовать при церемонии вместе с камер-юнкерами - моими товарищами..." (XII, 332). Вяземских представлял сын - четырнадцатилетний Павел Петрович, который засмотрелся на красавиц и потому "не порядочно" описал торжество в своем неизданном дневнике.
Петр же Андреевич и Вера Федоровна 11 августа направились в Европу - лечить от туберкулеза дочь Пашеньку. В Германии Вяземского однажды поразило эхо: "...труба раздается по скалам, как труба последнего суда или голос графа Литты, когда он говорит о колонне Александровской…" (224, 274). Это письмо послано на родину из Ганау 14 октября 1834 года.
На следующий день Александр Иванович Тургенев записал в дневник: "Вечер у Пушкина: читал мне свою поэму о Петербургском потопе. Превосходно" (166, 169). Это - самое раннее из сохранившихся высказываний о "Медном всаднике".
Тургенев вернулся в Россию в конце мая; почти два года он провел в странствиях, спеша охватить своим умственным взором все новейшие достижения европейской мысли - не только гуманитарной, но и инженерной. (В апреле 1834 года К.-Ф. Вибекинг, мюнхенский ученый и архитектор, рассказывал ему свой проект "об отвращении потоплений от Петербурга".)
Лето 1834 года Тургенев прожил в Симбирской губернии, в семейной вотчине. С Пушкиным он впервые увиделся в начале сентября - в Москве. Здесь Тургенев услышал отрывки из "Истории Пугачева", получил твердое обещание, что эта книга, "как скоро выйдет из печати", "явится" к нему "первому" (XV, 189).

Ф. Руссло. Иллюстрация к парижскому изданию 1979 г.
В октябре - частые встречи в Петербурге. 19 октября Александр Иванович Тургенев уведомлял брата (Николая Ивановича): "Пушкин читал мне новую поэмку на наводнение 824 г<ода>. Прелестно; но цензор его, государь, много стихов зачернил, и он печатать ее не хочет". 23 октября Пушкин заходил к Тургеневу, который на следующий день писал Вяземскому за границу: "Поэма его о наводнении превосходна, но исчерчена и потому не печатается" (150, т. 3, 262).
Однако как раз осенью 1834 года дело начало сдвигаться с мертвой точки. По-прежнему не желая исправлять поэму по требованиям царя, Пушкин решился на компромиссный вариант - отдельно опубликовать Вступление, изъяв из текста четыре строки, перечеркнутые Николаем I в рукописи. Иных претензий "высочайший цензор" не высказал, да и каких-либо затруднений в связи с этим отрывком поэт никак ожидать не мог.
В его практике уже был такой прецедент. В конце 20-х годов, не получив разрешения напечатать "Бориса Годунова",- Николай рекомендовал переделать "комедию" в историческую повесть или роман,- Пушкин опубликовал два отрывка: в "Северных цветах" и "Деннице". А в 1831 году он все-таки издал полного "Бориса" под свою "личную ответственность".
Надо помнить и о том, что со Смирдиным были заключены очень выгодные кондиции. По сведениям, которыми располагал П. В. Анненков, за "Гусара", напечатанного в первой книжке "Библиотеки для чтения", Пушкин получил тысячу рублей. (Называлась и другая расценка: червонец за строку.) Материальной стороной Пушкин никак не мог пренебречь.
Не исключено, что "высочайший цензор" был заранее уведомлен о публикации фрагмента из "петербургской повести". В 20-х числах октября Николай I принял поэта в связи с изданием "Истории Пугачева" (116, т. 58, 113), и Пушкин мог воспользоваться этим поводом.
Вступление к "Медному всаднику" - под заглавием "Петербург. Отрывок из поэмы" - увидело свет в декабрьской книжке журнала за 1834 год. Четыре стиха (сопоставление Москвы и Петербурга) были заменены здесь четырьмя строками точек (таким образом Пушкин обозначал цензурные купюры); снял автор и заключительное пятистишие (Была ужасная пора...), непосредственно связующее Вступление и сам "страшный рассказ".
Вслед за "Петербургом", открывавшим журнальную книжку, были напечатаны "Байрон в Колизее" И. И. Козлова, "Певец" Гете в переводе А. Н. Струговщикова, "Стансы" В. Гюго, переведенные И. И. Панаевым. Стихотворец М. А. Марков, только что отметившийся в "Библиотеке для чтения" панегириком Александровской колонне ("Я зрю, как поздний мой потомок Стоит, невольно поражен, Гиганта взором измеряя,- И тихо имя Николая С благоговеньем шепчет он..."), на этот раз обратился к игривой теме. Он повел читателей на "Модное гульбище": "Февраль. Извощиков к досаде, Уж мало снегу в Петрограде..."
В прозаическом разделе публиковались повесть Пушкина "Кирджали" и "Дон-Кихот XIX века" К. П. Масальского. М. А. Яковлев дал обзор текущей драматической продукции, где пересказал содержание "Осады Пскова", к тому времени уже поставленной на сцене, а также вышедшей отдельным изданием.
"Гвоздем" же номера неожиданно стал перевод "Красавицы" Виктора Гюго, сделанный поэтом М. Д. Деларю.
22 декабря 1834 года Пушкин записал: "Ценсор Никитенко на обвахте под арестом, и вот по какому случаю: Деларю напечатал в Библ<иотеке> Смирдина перевод оды В. Юго, в которой находится следующая глубокая мысль: Если де я был бы богом, то я отдал бы рай и своих ангелов за поцелуй Милены и Хлои. Митрополит (которому досуг читать наши бредни) жаловался государю, прося защитить православие от нападений Деларю и Смирдина.- Отселе буря" (XII, 335). Александр Васильевич Никитенко, подробно описавший свои злоключения (140, 160-165), дознался, что первым забил тревогу писатель и церковный деятель А. Н. Муравьев, а митрополит Филарет, который однажды углядел оскорбление святыни в седьмой главе "Онегина" ("... и стаи галок на крестах"), но не нашел поддержки у Бенкендорфа, на сей раз добился полного удовлетворения. Скандал был настолько шумный, что о нем сообщалось в депеше вюртембергского посланника своему королю.
Единственный отрывок из "петербургской повести", увидевший свет при жизни Пушкина, не вызвал никаких откликов.
"Теперь мы не узнаем Пушкина: он умер или, может быть, обмер на время,- писал в "Литературных мечтаниях" В. Г. Белинский спустя две недели после публикации пушкинского отрывка.- <...> По крайней мере, судя по его сказкам, по его поэме "Анджело" и по другим произведениям, обретающимся в "Новоселье" и "Библиотеке для чтения", мы должны оплакивать горькую, невозвратную потерю".
Иван Иванович Панаев, вступавший в это время на литературную стезю, позднее рассказал о сильнейшем впечатлении, которое произвела первая программная статья Белинского. В тех же воспоминаниях он упомянул, что однажды его перевод из Гюго был напечатан рядом с некими стихами Пушкина (152, 39). Деталь выразительная: впоследствии Панаев едва ли не наизусть знал "петербургскую повесть", и не случайно, что, принимая Александра Дюма, приехавшего в Петербург в 1858 году, он поспешил перевести ему начальные строфы Вступления. Нет сомнения, что если бы эти строфы запомнились Панаеву по первой публикации, то в своих мемуарах (писавшихся в 1860- 1861 годах) он не преминул бы отметить, какие именно "стихи Пушкина" соседствовали с его переводом.
Общее равнодушие к "Петербургу" лучше всего демонстрирует дневник В. К. Кюхельбекера. Старинный пушкинский друг, к тому времени около десяти лет проведший в одиночном заключении, был, наверное, самым прилежным читателем в России; не роптал он и в те месяцы, когда держал в руках только издания двадцатилетней давности. К "Библиотеке для чтения" Кюхельбекер отнесся с повышенным вниманием: здесь удалось опубликовать два его стихотворения, здесь он встречал имена друзей - Владимира Одоевского, Пушкина. "По моему мнению,- писал Кюхельбекер племяннице,- журналисты с ума сходили, когда было начали нас уверять, будто Пушкин остановился, даже подался назад. В этом "Гусаре" гетевская зрелость таланта" (116, т. 58, 114).
Декабрьскую книжку за 1834 год Кюхельбекер получил через год после ее выхода. Творение Масальского показалось ему "совершенным вздором", "а "Кирджали" Пушкина - просто анекдот, но очень хорошо рассказанный" (108, 342). В дневнике Кюхельбекера отмечена даже статья М. А. Яковлева - и нет ни слова о "Петербурге".
Невнимание современников к "Петербургу" вполне объяснимо. Вступление к поэме, вынужденно изъятое из своего контекста, звучало гимном "военной столице" и невольно растворялось в мощной одической струе, омывавшей Александровскую колонну.
Впрочем, одно ретроспективное свидетельство позволяет осторожно предположить, что у "Петербурга" все же был заинтересованный читатель.
Александр Петрович Милюков, будущий критик, журналист и преподаватель, в середине 1830-х годов учился в 1-й московской гимназии. В одной из своих мемуарных книг, вышедшей в 1872 году (и не отличавшейся точностью), он, в частности, рассказал, как счастливое стечение обстоятельств позволило ему, подростку из небогатой мещанской семьи, попасть на литературные вечера Ф. Ф. Кокошкина, драматурга и переводчика, еще недавно управлявшего московскими театрами.
"Литературные новости делались нам известными задолго, иногда за несколько лет до появления в печати. Авторы либо сами читали их на литературных вечерах Кокошкина, либо присылали ему списки. Так, например, отрывки из "Медного всадника" я узнал еще до кончины Пушкина, между тем как поэма напечатана была после его смерти. Мне удалось даже списать одно место, и в урок, назначенный в гимназии для чтения стихов, я продекламировал его в классе. Василий Иванович был очень доволен и просил дать ему копию" (131, 224).
Пушкин встречался с Кокошкиным только в конце 1810-х годов, в дальнейшем они не поддерживали отношений, и, разумеется, рассказ о списке "Медного всадника", присланном Кокошкину,- совершенно недостоверен. (Позднее Милюков опубликовал воспоминания о Кокошкине, где данный эпизод не фигурировал)*. Но упоминание именно об "отрывках" из поэмы наводит на мысль о том, что в основе этой легенды лежит реальное событие. Не исключено, что, прочитав в журнале "Петербург", гимназист переписал текст, с которым и явился на урок к В. И. Оболенскому, преподававшему словесность в 1-й московской гимназии (в декабре 1834 года он был утвержден адъюнктом Московского университета).
* (В 1890 году Милюков писал совершенно иначе: "... бывали иногда у Кокошкина литературные вечера, но они не особенно интересовали меня, потому что читали большей частию уже известное и напечатанное" (132, 22). К сожалению, выдумка о посланном Кокошкину "отрывке" из "Медного всадника" подхвачена не так давно в массовом альманахе (162, 460).)
Но повторим, что все это - только догадка.
Появление "Петербурга" имело единственное важное следствие: в свете начались толки о лежавшей под спудом пушкинской поэме. Как помним, в ноябре - декабре 1834 года Смирнов констатировал, что Пушкин "в сию минуту" отказывается печатать "Медного всадника".
2 декабря 1834 года, в доме Елизаветы Михайловны Хитрово, Тургенев встретился с маркизом Дуро, сыном герцога Веллингтона. "Маркиз Дуро допрашивал, почему государь не пропустил стихов Пушкина... "Tes "pourquoi", marquis, ne finiraient jamais...""* (166, 171).
* (Твоим "почему", маркиз, не будет конца (фр.) - перефразированное выражение Вольтера ("Твоим "почему",- сказал бог,- не будет конца").)
Накануне вышла декабрьская книжка "Библиотеки" с пушкинским "отрывком", и, конечно, речь могла зайти о сакраментальных стихах (И перед младшею столицей...), отсутствие которых было подчеркнуто четырьмя рядами точек. Эти строки через неделю, 9 декабря, Пушкин специально записал для Александра Ивановича (166, 171).
Но не менее вероятно предположение М. И. Гиллельсона о том, что 2 декабря обсуждалась судьба всей "петербургской повести" (166, 433). И отговорка Тургенева вполне соответствовала неопределенному статусу пушкинской поэмы - не запрещенной, но и не разрешенной.
Опубликовав "отрывок из поэмы", автор не оставлял надежд увидеть ее в печати целиком. План собрания сочинений, составленный Пушкиным в 1830 или в 1831 годах, дополнен новым томом, где обозначен и "Медный всадник" - вместе с "Анджело" и сказками (6, 255).
Но еще полтора года, говоря стихами "петербургской повести" XX века,
...лежит поэма И, как свойственно ей, молчит.
В последние дни 1834 года увидела свет "История Пугачева", переименованная Николаем I в "Историю Пугачевского бунта". С января следующего года Пушкин "очень занят Петром" (XVI, 336). "...Скопляю матерьялы - привожу в порядок - и вдруг вылью медный памятник, которого нельзя будет перетаскивать с одного конца города на другой, с площади на площадь, из переулка в переулок" (XV, 154).
В середине 1835 года в Москве начал выходить журнал "Живописное обозрение". На обложке стояло имя книгопродавца А. И. Семена, но ни для кого не составляло секрета, что "душою этого издания" (159, 333) являлся опальный литератор Николай Полевой. (Годом ранее Уваров, который видел в Полевом "проводника революции", добился запрещения его журнала "Московский телеграф".) В конце 1835 года Полевой выступил в "Живописном обозрении" со статьей "Памятник Петра Великого".
"Беден был памятник, воздвигнутый Петру Вольтером, гением своего века, но историком жалким. <...< Этот неудачный опыт вознаградил другой, которым, к сожалению, мы также обязаны искусству чужеземца. Впрочем, идея его и выбор места принадлежали Екатерине: она положила привезть из диких окрестностей Петербурга огромный камень, и на этом исполине ископаемого царства поставить статую Петра Великого. <...> Фальконет, воспитанник жалкой школы Искусства XVIII века, времени совершенного упадка всего изящного, не понял величия мысли Екатерины. Можно ли поверить? Екатерина хотела воздвигнуть статую конную, и чем бы вы думали более всего занялся Фальконет? Отделкою коня! <...>
Он представил Петра быстро въезжающим на коне на гору. Петр, по тогдашнему обычаю всех художников, изображен в какой-то греческо-римской хламиде, босой, с лавровым венком на голове; под ногой коня видна длинная, умирающая змея. Что она значит? Не знаем. Вся фигура носит отпечаток искусной отделки, но и - только. Памятник не выражает ни Петра, ни России, а с удивительным подножием статуи Фальконет поступил как истинный варвар. <...> Не постигая поэзии бросить этого великана, как он есть, под стопы Великого, Фальконет обтесал, обрубил камень до того, что принуждены были приделывать снова верхнюю часть его.
<...> Мы не можем быть довольны памятником Фальконета как произведением изящных искусств, ни историею Голикова как трудом настоящего историка. <...> Нашему или грядущему веку достоит честь воздвигнуть Петру памятник от русской души, русским умом, в истинных понятиях об искусстве, и подарить Отечество такою историею Петра, которая вполне показала бы весь необъемный гений его, все величие его подвигов" (75, л. 14, 105-106).
Полевой давно строил масштабные замыслы. В 1829- 1833 годах выходила его "История русского народа", но это издание прекратилось на шестом томе (посвященном эпохе Ивана Грозного). Теперь же он мечтал написать "Историю Петра", и статья 1835 года имела дальний прицел.
В описаниях памятника Петру допускалось единственное замечание в адрес скульптора - он "отбил необходимую часть подножия", которую "после должно было приставить". Полевой этим упреком не ограничился. Его отзыв о творении Фальконе был вызывающе резок, но он лишь подчеркивал готовность автора следовать новейшим официальным веяниям. Как вскоре выяснилось, Полевой избрал верный способ добиться расположения Николая I. И сама эта тирада не представляла бы особенного интереса, если бы не то обстоятельство, что неприязнь Полевого к памятнику на Петровской площади некогда имела отнюдь не верно-подданнический характер.
"Московский телеграф", почти десять лет издававшийся Николаем и Ксенофонтом Полевыми, впервые объявлял о притязаниях нарождавшегося третьего сословия. "Просвещенные разночинцы" не только оспаривали культурную монополию современных "литературных аристократов", но и ревизовали художественное наследие прошлого. Этот демократический скепсис импонировал молодому Герцену. На рубеже 1832-1833 годов студент Московского университета близко сошелся с братьями Полевыми, и в его юношеской статье "Двадцать осьмое января" (28 января 1833 года) есть пассаж, прямо отзывающийся нелицеприятным "телеграфским" мнениям.
"Не поражало ли каждого из нас равнодушие России к Петру? Правда ему есть памятник, величественный, среди его города, но надпись на нем Petro primo Catharina secunda... Есть и другой памятник; под ним написано: "Прадеду правнук"; это дело семейное. Но где же тут Россия? Где? Есть ли день, в который бы она собиралась в память Великого, есть ли тот поэт, которого бы он вдохновил, есть ли, наконец, творение, в котором бы достойным образом описаны были деяния Великого".
Другая задача статьи 1835 года - непосредственно полемическая. Полевой опровергал "новейших порицателей" Петра: "Не понимая, что в общности всей жизни и всех свойств Петра Великого познается его гений, хотят рассматривать его отдельно, как законодателя, как воина, как человека, переносят к суждению о нем современные идеи..." (75, л. 14, 107). По убедительному предположению В. Э. Вацуро (7, 450), здесь содержится намек на исторические занятия Пушкина, у которого Полевой соревновал звание историографа Петра Великого.
В январе 1836 года Полевой предпринял решительный шаг. Бенкендорфу была подана записка о задуманной "Истории Петра Великого". "Петр Сын Судеб" - так сформулировал Полевой "тему" своего будущего сочинения, к которому он приступал с "тайной мыслью". "История последних десяти лет открыла нам тайну праправнука Петрова, того, кто вступил на престол России ровно через сто лет (1725-1825 годы). Мы знаем, кто ожил в нем". Бенкендорф представил этот документ Николаю I с благожелательным отзывом.
Высочайшая резолюция гласила: "Историю Петра Великого пишет уже Пушкин, которому открыт архив Иностранной Коллегии; двоим и в одно время поручать подобное дело было бы неуместно" (113, 102).
Не будучи поклонником Пушкина-поэта, Николай I ценил Пушкина-историка. "История Пугачева" предоставляла важный материал для правительственных прений по крестьянскому вопросу. Николай I, который время от времени склонялся к отмене крепостного права, именно в 1834 году приблизил к себе графа Петра Дмитриевича Киселева: бывший начальник штаба 2-й Южной армии, человек эрудированный и даровитый (некогда приятельствовавший с Пестелем), решительно высказывался за освобождение крестьян и наделение их землей. Киселева называли в Петербурге "Пугачевым".
В глазах Николая I историк Пугачева подтвердил свое право быть историком Петра.
Полевой достойно принял поражение и признал приоритет Пушкина. В "Живописном обозрении" завелся раздел "Русская литературная летопись", в котором летом 1836 года была дана такая справка: "Пушкин Александр Сергеевич, родился в Петербурге 26 мая 1799. Первый из современных поэтов русских, превосходный прозаик и единственный после Державина поэт лирический. Ныне находится в Петербурге <...>. Теперь занимается Историей Петра Великого, для которой приготовил уже много материалов, и издает журнал "Современник"" (75, л. 47, 374-375).
В это же время Бенкендорф, вообще благоволивший к Полевому, оказал ему важную услугу. Находясь в Москве, он прочел статью "Памятник Петра Великого" и обратил на нее внимание государя, вместе с которым прибыл в старую столицу. Николаю I "чрезвычайно" понравилась статья, и он поручил шефу жандармов изъявить монаршее "благоволение за нее автору" (159, 335).
Дело происходило в августе 1836 года. Памятник Петру по-прежнему раздражал Николая I.
В июле - августе 1836 года Пушкин взялся исправлять "Медный всадник".
14-м августа датирован счет, поданный переписчиком: он изготовил беловые копии трех статей Пушкина ("Письмо к издателю", "Об Истории Пугачевского бунта", "Вольтер"), "бумаг" неустановленного содержания и "Медного всадника" (115, 34). На писарскую копию Пушкин перенес все пометы Николая I; здесь же он производил правку.
Самый загадочный эпизод прижизненной истории "Медного всадника". Почему Пушкин, поначалу отказавшийся исправлять свой текст, именно в этот момент решился на переделку? Почему он не довел дело до конца? Где и как мыслилась публикация "петербургской повести"?
29 августа 1836 года Николай Алексеевич Муханов, навестивший Пушкина, одним из первых прочел его новое стихотворение. Ему показалось, что поэт в нем "жалуется на неблагодарную публику и напоминает свои заслуги перед ней". Эта характеристика, относящаяся' к стихотворению "Я памятник себе воздвиг нерукотворный...", в значительной мере навеяна впечатлением от самого автора, которого Муханов нашел "ужасно упадшим духом", "вздыхающим по потерянной фавории публики" (168, 96).
В ту пору Пушкин действительно был встревожен своей пошатнувшейся писательской репутацией. Читающим обществом владело мнение о том, что в русской литературе уже миновал пушкинский период. Тезис Белинского оспаривался разве что в "Северной пчеле": "Пусть уверяют, что пушкинский период кончился, что теперь настает новая эпоха. Это, может быть, справедливо в отношении к столицам; но в Саратовской губернии царствует и продолжается еще пушкинский период".
Возможно, поэтому в августе 1836 года Пушкин решился привести "Медный всадник" в удобопечатаемый вид. Пусть и ценой существенных потерь, неизбежных при исправлении поэмы.
Н. В. Измайлов, наиболее авторитетный исследователь "Медного всадника", объясняет возвращение к рукописи тем обстоятельством, что материалы, публиковавшиеся в пушкинском "Современнике", "проходили не царскую, а общую цензуру. И как бы стеснительна ни была эта цензура, руководимая личным врагом поэта, министром народного просвещения С. С. Уваровым, он надеялся, что при условии некоторой переработки наиболее "опасных" мест, отмеченных в 1833 году Николаем I, поэма будет разрешена" (4, 222). Можно еще прибавить, что в августе 1836 года Пушкин составлял третий том "Современника", в котором появились все те статьи, которые были набело переписаны вместе с "Медным всадником".
Такая точка зрения, однако, подразумевает, что автор "Медного всадника" заведомо предпочитал иметь дело с общей цензурой. Мы же старались показать, что в 1833 году Пушкин выбрал другой путь. И эта тактика впоследствии не переменилась: в противном случае Пушкин еще в 1834-1835 годах предложил бы исправленную поэму в смирдинский журнал, где его произведения рассматривались на общих основаниях. Как раз в 1836 году момент был самый неблагоприятный - взаимоотношения с Уваровым и подопечными ему цензорами обострились до предела.
В конце февраля 1836 года Пушкин записал: "Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении. Его клеврет Дондуков (дурак и бардаш) преследует меня своим цензурным комитетом. Он не соглашается, чтоб я печатал свои сочинения с одного согласия государя. Царь любит, да псарь не любит" (XII, 337).
Об "Истории Пугачева", вышедшей по личному разрешению государя, Уваров мог только "кричать", но из "Анджело", подлежащего общей цензуре, Уваров самолично исключил восемь стихов. Когда в конце 1835 года появился памфлет "На выздоровление Лукулла", направленный против Уварова, молва сочла, что Пушкин отомстил министру за цензурный произвол.
Цензором же "Современника" Дондуков-Корсаков (председатель Петербургского цензурного комитета) назначил А. Л. Крылова, "самого трусливого", а следовательно, и "самого строгого" из этой "братии" (140, 180); летом 1836 года между ним и Пушкиным происходят постоянные столкновения из-за материалов третьего тома (45, 216-271).
В такой ситуации поэт не мог надеяться на благополучное прохождение "Медного всадника" - даже исправленного по замечаниям государя - в цензурных инстанциях. К тому же Пушкин, вероятно, знал о дурной славе, которую приобрело его неопубликованное произведение. 17 января 1836 года Никитенко - не со слов ли министра? - записал в дневник, что поэма "Всадник" уже "не пропущена" самим государем (140, 179).
Мы вправе предположить, что автор "петербургской повести" снова рассчитывал на "высочайшую цензуру". И, если бы Николай завизировал переделанный текст, Пушкин, скорее всего, выпустил бы "Медный всадник" отдельным изданием - "под личную ответственность" (как "Бориса Годунова").
Летом 1836 года, пытаясь исправить поэму по замечаниям Николая I, Пушкин одновременно начал ее редактировать.
Еще до того, как автограф был отдан переписчику, автор переменил последние строки Вступления.
Была ужасная пора, Об ней начну повествованье И будь оно, друзья, для вас Вечерний страшный лишь рассказ А не зловещее преданье
Была ужасная пора... Об ней свежо воспоминанье... Об ней, друзья мои, для вас Начну свое повествованье. Печален будет мой рассказ.
Эта правка как будто предвещала новую редакцию всей поэмы, но сохранившиеся смысловые или стилистические изменения, внесенные в текст на этом этапе*, не позволяют выдвинуть сколько-нибудь убедительную гипотезу.
* (Разночтения текстов поэмы 1833 и 1836 годов приведены и подробно охарактеризованы в исследовании Н. В. Измайлова (4, 83-85, 222-226).)
Переработка "Медного всадника" оборвалась на ранней стадии. В свою рабочую копию Пушкин даже не перенес новую редакцию стихов 145-158 (Жениться? Ну... Зачем же нет ~ И воспитание ребят...), которая была записана на отдельном листке. Этот текст был обнаружен лишь в 1947 году*.
* (См. публикацию С. М. Бонди (39). О текстологической проблеме, возникающей в этой связи, см. в специальной статье Н. В. Измайлова (89).)
Автоцензурная правка также осталась незаконченной. Переделывая четыре строки из Вступления, Пушкин ограничился исправлением лишь одного - и самого невинного - стиха (Померкла старая Москва - Главой склонилася Москва).
Не достигла цели и другая замена:
О мощный властелин судьбы! Не так ли ты над самой бездной, На высоте, уздой железной Россию поднял на дыбы?
О мощный баловень судьбы! Не так ли ты скакал над бездной И, осадив уздой железной, Россию поднял на дыбы?
Последний стих, вызвавший неодобрение Николая I, по-прежнему бросался в глаза.
Неприемлемым был и новый вариант ключевой сцены:
И дрогнул он - и мрачен стал П<е<ред недвижным Великаном И перст с угрозою подняв Шепнул, волнуем мыслью черной "Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе!"...
Существует предположение, что летом 1836 года, еще раз убедившись в том, что цензурная переделка "обесценивает" его "любимое творение", Пушкин вновь отказался от идеи напечатать "петербургскую повесть" (4, 227).
Не исключено, что дело обстояло иначе. Не сумев, так сказать, в один присест покончить с крайне неприятной работой, Пушкин отложил ее - и быть может ненадолго.
Немногие читали последнюю поэму Пушкина при его жизни; скудны и сохранившиеся отзывы, хотя вся амплитуда уже представлена. По мнению Смирнова, "Медный всадник" - "слабее других" произведений Пушкина. "Повесть о Петербургском потопе", на взгляд Тургенева,- "прекрасна".

Э. М. Фальконе. Памятник Петру Первому на Сенатской площади. 1782 г.

Э. М. Фальконе. Памятник Петру Первому на Сенатской площади. 1782 г.

Э. М. Фальконе. Памятник Петру Первому на Сенатской Площади. 1782 г.

Э. М. Фальконе. Памятник Петру Первому на Сенатской Площади. 1782 г.

Э. М. Фальконе. Памятник Петру Первому на Сенатской Площади. 1782 г.
|
ПОИСК:
|
© A-S-PUSHKIN.RU, 2010-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'