
"Все, что творится с его читателями..."
Среди записей Анны Ахматовой о Пушкине сохранилась и такая: "But this will be a mournful tale ("Гяур"). (Печален будет мой рассказ)" (54, 34). Пушкинский стих из "Медного всадника" мог бы быть прямым переводом из поэмы Байрона:
Yet this will be a mournful tale And they who listen may believe, Who heard it first had cause to grieve.
Давно - когда я в первый раз Услышал мрачное преданье Смутясь, я сердцем приуныл И на минуту позабыл Свое сердечное страданье - И дал тогда же обещанье
Или в переводе шестнадцатилетнего Лермонтова - "однако я расскажу вам печальную повесть, и внимающие мне могут поверить, что тот, кто слушал ее в первый раз, имел право грустить". Эти слова английского поэта Пушкин перекладывал еще в посвящении "Бахчисарайского фонтана" (Н.Н.Раевскому):
Исполню я твое желанье, Начну обещанный рассказ. Давно, когда мне в первый раз Поведали сие преданье, Мне стало грустно.
Давно, когда я в первый раз Услышал грустное преданье, Сердца печальные, для вас Тогда же дал я обещанье Стихам поверить сей рассказ
"Бахчисарайский фонтан" весь покрыт бликами и отблесками чтения "Гяура" (77), но дальние отсветы этого чтения пали и на замысел "Медного всадника". В том числе - и на центральную сцену.
К тому же подражанье Певцу Гяура
С неистовым, громоподобным грохотом врывается в байроновское повествование таинственный всадник на черном скакуне: "Who thundering comes on blackest steed..." Как демон ночи проскакал он мимо пораженного страхом случайного свидетеля - и долго еще в ушах у того звенели копыта черного коня:
Как будто грома грохотанье
And long upon my started year Rung his dark courser's hoofs of fear.
Звуча в окрестной тишине
Воспоминания о "Гяуре" проходят по всей поверхности пушкинской "петербургской повести". Байрон уподобил столкновение шайки Гяура с отрядом Гассана ("Сшибка, крик, стоны битвы") схлестнувшимся, обезумевшим волнам, когда поток горной реки сталкивается со встречным напором океанских валов. Это сравнение, разросшееся в 13 стихов, запало в память Пушкина.
...вопли, скрежет, насилье, брань, тревога, вой!
И когда он изображал Неву, не одолевшую "буйной дури" своих же волн и возвращенную ветром вспять от залива, то сравнил возмущенные невские волны с разбойничьей шайкой, ворвавшейся в село.
Осада! приступ! злые волны, Как воры, лезут в окна.
В своей последней поэме Пушкин подчеркнуто следует некоторым канонам байронической поэмы ("в использовании вступления, биографических реминисценций, сценизированной интермедии и некрологического заключения" - 225, 48). Он как бы прощался с постоянными приметами этого жанра, с теми байроновскими "общими местами", которые откликались и в ранних пушкинских поэмах. В последний раз герой поэмы возникал один на фоне бури в "байронической позе", как ранее Вадим -
Другой, как волхвом пораженный, Стоит недвижим; на брега Глаза вперив, не молвит слова...
Его отчаянные взоры На край один наведены Недвижно были
Но юноша, на перси руки Задумчиво сложив крестом, Сидит с нахмуренным челом
Без шляпы, руки сжав крестом, Сидел недвижный, страшно бледный Евгений...
или Кавказский пленник -
Когда с глухим сливаясь гулом, Предтеча бури, гром гремел, Как часто пленник над аулом Недвижим на горе сидел!
И он, как будто околдован
Байроновские творения отдаются словесным эхом в поэме о петербургском наводнении. Как зеркала, поставленные друг против друга, стиховые эпосы Байрона и Пушкина взаимно отражают и множат единые образы.
За отрывочной ахматовской выпиской вырисовывается колоссальный контур судьбы "Медного всадника". Судьбу эту и составляют поиски смысловой подпочвы поэмы, прорывы к ее "подсознанию" - в том смысле, в каком говорил Борис Пастернак: "Область подсознательного у гения не поддается обмеру. Ее составляет все, что творится с его читателями и чего он не знает". Потребность сопоставлять пушкинскую поэму с ее литературными предшественниками и потомками вызвана в конечном счете самой природой этого произведения. В последней поэме Пушкина обнаруживается множество отголосков его цепкого чтения. В который раз повторим, что эти "похищения" (как принято было тогда называть поэтические цитаты) означают не творческую необеспеченность Пушкина, а строительство новых смыслов из чужого материала. Старый пушкинист Н. О. Лернер не раз говорил, что Пушкина можно назвать скорее дающим, чем берущим. Так, из метьюриновского "Мельмота-Скитальца" автор "Медного всадника", кажется, выхватывает несколько фраз: "...в то время как за стенами опустевшего дома завывал ветер, а дождь уныло стучал в дребезжащие стекла, ему захотелось - чего же ему захотелось? Только одного, чтобы звук ветра не был таким печальным, а звук дождя таким мучительно однообразным. Его можно за это простить",- и строит из них стихотворный рассказ о переживаниях петербургского чиновника в ночь перед наводнением.
И грустно было Ему в ту ночь, и он желал, Чтоб ветер выл не так уныло И чтобы дождь в окно стучал Не так сердито.
Пушкин взял и схему безумия мстителя, известную по английской трагедии. Он переиначил и даже "присвоил" формулу Альгаротти о Петербурге как окне в Европу*, дав пищу для десятков каламбуров на столетие вперед. Он делал "похищения" у русских одописцев, у Батюшкова, Шевырева. Исследователи видели в "Медном всаднике" цитаты из Данте (120), Шатобриана (100) или Огюста Барбье (116, т. 16-18, с. 102) именно потому, что в других местах поэмы Пушкин открыто цитировал и демонстративно ссылался -
* ("...Санкт-Петербург и не есть Россия,- писал Александр Дюма,- это, как сказал Пушкин, а может быть, и сам Петр I,- окно в Европу" (74, 468).)
Любопытные могут справиться...
уже его примечания к поэме отсылают к нескольким "чужим" книжкам. Да и граф Хвостов для поэмы нужен отчасти как автопародия на этот сквозной прием. Он ведь не случайно появляется вместе с темой восстановленного порядка -
В порядок прежний все вошло
здесь прямая отсылка к неумеренному и неуместному пафосу его стихотворения "К N. N. о наводнении Петрополя, бывшем 7 ноября 1824 года":
Порядок царствует в Исакьевской, Морской <...> На стогнах чистота и дивные громады. Мосты висячие, узорные ограды, Весь град движения, занятий мирных полн; Где наводненья след и где свирепость волн?
На примере "Медного всадника" еще раз подтверждается старинный афоризм - цитируют только того, кто не избегает цитировать сам. И впрямь литературные приключения отдельных мотивов пушкинской поэмы захватывающе интересны. Они возвращаются к русскому читателю с самой неожиданной стороны. Как-то раз - из Швеции. В книге Сельмы Лагерлёф "Удивительное путешествие Нильса Холгерссона по Швеции" (1907) статуя Карла XI, "бронзового мужа", в лунную ночь грохочет по мостовой вослед маленькому Нильсу, который задал памятнику непочтительный вопрос: "На что здесь этот губошлеп?" И уже на наших глазах конфликт "Медного всадника" в почти неузнаваемом виде (мы, пожалуй, и не узнали бы его, если б не признание самого автора!) разыгрывается в пьесе английского драматурга Питера Шеффера "Эквус" (у нас известнее другие его произведения).
А сколько раз в русской поэзии переписывалось наново одно только начало Вступления! От гладких хореев Владимира Бенедиктова, которые Некрасов упрекал за измельчание и опошление великого образца:
На берегу пустынных волн
Раз, заметив захолустье, Лес, болотный уголок, Глушь кругом,- при невском устье Заложил он городок.
В Европу прорубить окно
Шаток грунт, да сбоку море, Расхлестнем к Европе путь! Эта дверь не на затворе. Дело сладим как-нибудь. Нынче сказана граница, Завтра - срублены леса, Чрез десяток лет - столица, Через сотню - чудеса! <...> Всюду дум его рассадник - И прекрасен над рекой Этот славный Медный всадник С указующей рукой. Так державно, так престольно Он глядит на бег Невы, Что подходишь - и невольно Рвется шапка с головы...
Картуз изношенный снимал
И - до изощренного косноязычия "Комедии города Петербурга" Даниила Хармса, которую открывает монолог Петра:
Я помню день. Нева шумела в море пустая, легкая, небрежная Нева когда пришел и взглядом опрокинув тучу великий царь подумал в полдень тусклый и мысль нежная стянув на лбу морщину порхая над Невой над берегом порхая летела в небо реяла над скучным лесом тревожила далекий парус в чудном море. Тогда я город выстроил на финском побережьи сказал столица будет тут. И вмиг дремучий лес был до корня острижен и шумные кареты часто били в окна хижин.
Один только библиографический указатель всех перепевов, переложений, пародий и подражаний, цитат и вариаций мог бы стать объемистой книгой, небесполезной и небезынтересной.
"Печальна повесть" разошлась на клише, присловья, на те инерционные движения языка, когда слова Пушкина приходят к месту и не к месту. Стиховые сгустки далеко унеслись от героев, с которыми они были связаны в поэме. В одной повести конца прошлого века о главном герое с тяжеловесной иронией говорилось, что волна народнического движения закружила его "и стала носить по тюрьмам и этапам, пока наконец не выкинула на берег пустынных волн, предоставивши ему стоять здесь со своими великими думами и бесполезно опущенными руками". В автобиографической повести середины нашего века напроказивший пес появляется с опущенным хвостом - "ни дать, ни взять Евгений из "Медного всадника":
Картуз изношенный сымал, Смущенных глаз не подымал И шел сторонкой".
Сочетания слов, осколки стихов, интонации да и сам сюжет растворились в стихии русской речи. Легкость и естественность этого растворения, способность книги возвращаться все в новых стилистических и сюжетных убранствах скрывают, однако, в себе весьма серьезную драму.
Мы часто превозносим благосостояние литературного произведения, ссылаясь на его неизменную пригодность для наших текущих нужд. Но о цене этой расхожести мы забываем. Судьба книг - это часто драма разъятого, отчужденного смысла. Первозданного смыслового единства, включившего в себя столько разнонаправленных мотивов, возникшего как "сплав самых разных стилей и наследие противоположных культур" (243, л. 168 об.), нам уже не восстановить. Сумма истолкований лишь оттеняет "невиданную", как говорит современный исследователь, "свободу Пушкина от концептуальности": выводы лирического автора предстают как "весьма обыкновенные истины" (слова Н. М. Карамзина), а любые другие, более "умные", которые может сделать читатель,- как еще один вариант "толков о наводнении, о Петре и его городе" (206, 16).
Судьба "Медного всадника" фрагментарна. Единства судьбы нет, но есть длина пути. Путь этот был достаточно извилист. Державное течение поэмы 1833 года охватило всю русскую литературную ойкумену. Таков один из удивительных и непреложных фактов русского читательского сознания: тень Всадника постоянно мерещится нам на страницах и великих и незаметных русских книг. Иногда под пером критиков это выглядело слегка комично - когда, например, родство с заглавным пушкинским героем видели в медной каске полицейского у Достоевского или в "медных грудях" чичиковской тройки,- но и здесь было лишь шаржированное проявление всеобщего читательского предощущения. И тень коломенского жителя, Парашиного жениха, тоже витает над иными корешками и переплетами. Евгений Иванов писал о "Двойнике" Достоевского: "...как в Голядкине господине не узнать все того же бедного-бледного Евгения, "оглушенного шумом внутренней тревоги", которого "смятенный ум не устоял против ужасных потрясений" петербургских "наводнений"" (84, 86). Бедного Евгения можно узнать и во многих других русских литературных героях, точнее сказать,- и это было в свое время сформулировано Л. В. Пумпянским - Евгений стал на долгие годы одним из главных героев русской литературы, "а гуманизм пушкинской повести развернулся в одну из тех особенностей русской литературы, которые превратили ее в литературу мирового значения" (165, 124). Так "Медный всадник" - уже задним числом - вобрал в себя необмерное множество смысловых ассоциаций, эмоциональных ореолов и проблемных узлов из последовавших за ним стихов, повестей, романов.
Он вышел за рамки, предустановленные литературному произведению. Смысловая вместимость его приближается к бесконечной. 481 стих четырехстопного ямба, слова и пробелы между ними вобрали в себя не только город, но и судьбы своих читателей, их боль, ужас и надежду. К словам стало трудно прикасаться. Один из писавших о Пушкине говорил, что ему неловко и стыдно цитировать "Медный всадник" - стихи, которые и так помнятся наизусть и почти бессознательно твердятся в минуты личных переживаний. Текст "Медного всадника" стал небывало интимным.
Пианистка М. В. Юдина в концертах укладывала справа на рояле картинку с Фальконетовым Петром. "Однажды она играла сонату Моцарта, и всем нам показалось, что она очень ускорила темпы, играла громко, как-то настойчиво и беспокойно стучала по клавишам. После концерта один знакомый композитор ей об этом сказал <...>. "А, вы заметили,- сказала обрадованно Мария Вениаминовна,- знаете, я сегодня была во власти Медного всадника, я хотела передать и топот, и погоню, и страх"" (219, 52).
Когда поэты начала века, смещая и перепутывая границы искусства и судьбы, в обряде словесной магии заклинали явиться скачущую бронзовую статую, это было литературной игрой, невольно обозначившей будущую роль поэмы в судьбе их поколения.
Хотелось бы всех поименно назвать...
10 февраля 1942 года в день смерти Пушкина пять историков и филологов добрели до пушкинской квартиры на Мойке. В ранних сумерках первой блокадной зимы с морозным дыханием, с тем легко улетучивающимся паром, который есть последнее и неопровержимое свидетельство теплящейся жизни, вырвались однажды отмеренные ямбы: Люблю. Тебя. Петра. Творенье. Люблю. Твой строгий. Стройный вид. Невы державное теченье. Береговой ее гранит. Твоих оград узор чугунный. Твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный, когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, и ясны спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла...
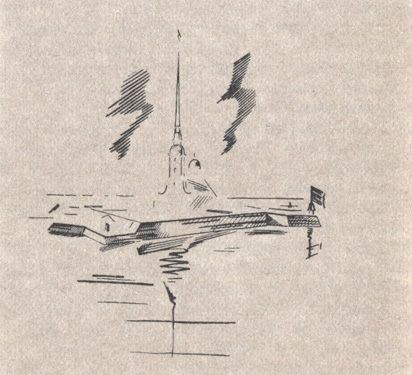
|
ПОИСК:
|
© A-S-PUSHKIN.RU, 2010-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'