
Фикельмоны
I
Среди неизвестно где находящихся архивов, в которых, по всей вероятности, были материалы, так или иначе относящиеся к Пушкину, литературоведов издавна интересовали бумаги австрийского посла в Петербурге графа Шарля-Луи Фикельмона и его жены, графини Дарьи Федоровны, которая в литературе о Пушкине более известна под своим английским уменьшительным именем Долли.
В 1942 году я решил попытаться найти этот неизвестный, но несомненно ценный архив. Задача была нелегкой, так как Фикельмон скончался в 1857 году, его жена умерла в 1863 году, и никаких данных о местонахождении их бумаг в известной мне литературе не было.1
1... (в известной мне литературе не было.- Впоследствии выяснилось, что "...в 1913 году были опубликованы в печати оставшиеся неизвестными русским пушкинистам указания на архив Фикельмонов в известном сборнике описаний ряда немецких и чешских архивов. В этом очень суммарном описании бумаг графа Фикельмона, сохранившихся в Теплице-Шанове в северо-западной Чехии в замке князей Кляри-и-Альдринген, не были отмечены личные бумаги супругов Фикельмон. Поиски в Теплице могли, конечно, разъяснить дело".2)
2 (Флоровский. Дневник Фикельмон, стр. 50.)
В то же время, зная, как тщательно сохраняются в архивах западно-европейской знати бумаги не только своей семьи, но и давно вымерших близких родов, я был уверен в том, что архив Фикельмонов можно отыскать, если только он случайно где-нибудь не погиб за восемь десятилетий, прошедших после смерти графини. Надо было отыскать конец нити. Я нашел его сравнительно быстро, но далеко не сразу. Помешала война. Надо кроме того сказать, что гитлеровцы, продержав меня в 1941 году два месяца в тюрьме, запретили мне затем выезжать из Праги. Таким образом мои возможности были очень и очень ограничены. Приходилось искать неизвестно где находящийся архив, сидя в зале докторов Национальной и Университетской библиотеки.
Я знал давно, что в 1911 году в Париже некий граф Ф. де Сони издал письма графа и графини Фикельмон к сестре Дарьи Федоровны графине Екатерине Тизенгаузен.1 По-видимому, в Россию попало очень мало экземпляров этой интересной книги. Пушкинисты ее почти не использовали. Я рассчитывал на то, что де Сони, вероятно, знал, где хранится архив Фикельмонов, и, быть может, упомянул об этом в изданном им сборнике. К сожалению, в богатых книгохранилищах Праги нужной мне книги не оказалось. Тщетны были и мои попытки что-либо узнать об ее составителе. Ни в одном из французских справочников фамилии де Сони я не нашел. По всей вероятности, это псевдоним.
1 (Соmte F. de Sonis. Lettres du comte et de la comtesse de Ficquelmont a la comtesse Tiesenhausen. (Граф Ф. де Сони. Письма графа и графини Фикельмон к графине Тизенгаузен). Paris, 1911. В Дальнейшем: Сони.)
Один ключ не подошел. Я стал искать другой.
Граф Фикельмон с пятнадцати лет состоял на австрийской военной службе, но по происхождению он француз из старинного лотарингского рода. Возможно, что во Франции или в Бельгии и сейчас проживают какие-либо потомки его родственников, но я не пытался узнать, кто именно. Все равно во время войны списаться с ними из Праги невозможно. Надо поискать, не осталось ли родственников и в Центральной Европе.
Одну за другой беру книги по пушкиноведению, но нужных мне данных не нахожу. Позже я убедился в том, что плохо искал,- кой-какие сведения все же были.
Прошло несколько недель. Однажды, сидя дома, я вдруг вспомнил о том, что где-то читал о дочери графини Фикельмон. Кажется, она вышла замуж за какого-то австрийского князя. Да, несомненно читал, но где? Силюсь вспомнить - не удается. Еще и еще раз напрягаю память. И вдруг ясно вижу перед собой толстый поблекший том - "Старую записную книжку" друга Пушкина П. А. Вяземского.
Скорее в библиотеку! "Старая записная книжка" з "Полном собрании сочинений князя П. А. Вяземского" - это не один том, а три (VIII, IX, X). Перелистываю их, заглядывая в указатели, и почти сразу нахожу то, что мне нужно. Запись 12 ноября 1853 года, сделанная в Венеции.
"12. Вечер у Стюрмер. Первый в Венеции. Принцесса Клари белоплечая с успехом поддерживает плечистую славу бабушки своей Елизы Хитрово. Красива и мила".1
1 (П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. X, стр. 83.)
У Елизаветы Михайловны Хитрово, друга Пушкина, дочери фельдмаршала М. И. Кутузова, была только одна замужняя дочь. Вторая, фрейлина Екатерина Федоровна Тизенгаузен, замуж не вышла. Итак, принцесса Клари.., Фамилия звучала по-итальянски. А вскоре я нахожу еще одну обрадовавшую меня запись без даты.
"Графиня Хотек, бабушка нынешнего принца Клари, который владеет Теплицем и женат на нашей полусоотечественнице графине Фикельмон, оставила по себе записки".1
1 (П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. X, стр. 149.)
Есть и еще несколько записей, а в двенадцатом томе - стихотворение "Notturno",1 написанное в 1863 году и посвященное "принцессе Клари, урожденной графине Фикельмон". Старческая бледная лирика (Вяземскому 71 год),2 но чувствуется, что былой поклонник матери неравнодушен и к дочери. Девятью годами раньше он писал (по-французски) графу А. Орлову: "Мне доставило большое удовольствие ее видеть прежде всего потому, что она была она, и затем еще потому, что для меня она была ее мать".
1 (Там же, т. XII, стр. 33 - 34.)
2 (Старческая бледная лирика (Вяземскому семьдесят один год)...- Приведу все же несколько стихов из этого Notturno, можно думать, навеянного воспоминаниями о недавно умершей графине Фикельмон:
И младая догаресса,
Светлый образ прежних дней,
Под защитою навеса
Черной гондолы своей,
Молча ловит шепот стройный
Ночи неги и мечты, Ночи яркой и спокойной,
Как царица красоты.2)
2 (П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. XII, стр. 34.)
Я прочел все упоминания о "принцессе Клари", как ее именует Вяземский (теперь принято писать княгиня Кляри), но запоздалые чувства старого поэта мне неинтересны. Важно то, что дочь Д. Ф. Фикельмон найдена и ее мужу лет восемьдесят тому назад принадлежал замок в городе Теплице, по-чешски Теплице-Шанове. Может быть, бумаги Фикельмонов и сейчас хранятся там? Это очень недалеко от Праги, но, к сожалению, поездка в Теплиц для меня сейчас невозможна. К тому же за восемьдесят лег все могло измениться. Живя в Праге, я ничего не слышал о князьях Кляри. Где их искать, и существует ли сейчас этот род?.. Мог и вымереть за столько лет. Но о княжеской фамилии Кляри разузнать будет нетрудно. Для этого есть справочники и, прежде всего, Готский альманах. Если изучить родословную, можно догадаться и о том, куда мог попасть архив.

Замковая площадь в г. Теплице. Замок - трехэтажное здание справа. Гравюра 1810 года
На следующий день я занял с утра в "зале докторов" Национальной библиотеки один из специальных столов для читателей книг большого формата. Передо мной строй толстых томов - несколько чешских справочников, французская Большая энциклопедия, темно-малиновый с золотом том новой итальянской, Британская энциклопедия, сборник австро-венгерских биографий и, конечно, маленький по формату, но очень нужный Готский альманах. Служащие библиотеки посматривают на мой стол с интересом. Они приблизительно знают, чем заняты постоянные посетители, а я работаю в этом великолепном зале уже много лет. Сначала подбирал материалы для диссертации по анатомии насекомых, потом увлекся пушкиноведением. Как я уже упомянул, здесь, в Славянской библиотеке, хранится и все, что уцелело от петербургской библиотеки Смирдина.
Один из библиотекарей подходит ко мне, шепотом спрашивает:
- Нашли что-нибудь, господин доктор?1 Я улыбаюсь:
- Надеюсь найти...
1 (В Чехословакии долгое время существовала только одна ученая степень - доктора. Она приблизительно соответствует нашей кандидатской.)
Кое-что я уже установил. Дочь графини Фикельмон в честь императора Александра I и его жены, императрицы Елизаветы Алексеевны, была названа Елизаветой-Александрой. Ее муж носил титул князя Кляри-и-Альдринген.
Беру то один том, то другой. Выясняю, кто на ком и когда женился, где проживал, когда умер, что сталось с детьми. Мелькают передо мной Прага, Венеция, Рим, Вена, Лондон, Париж, дворцы, имения, замки... Стараюсь не упустить ни одного возможного варианта.
Через два дня задача теоретически решена. Князья Кляри-и-Альдринген здравствуют и поныне. Их основная резиденция по-прежнему замок в Теплице. Там проживает старший в роде, правнук графини Дарьи Федоровны, князь Альфонс. Если архив Фикельмонов не погиб в восьмидесятых годах во время одного пожара в Лондоне, то с наибольшей верностью его надо искать именно в теплицком замке. На втором месте стоит дворец Кляри в Венеции, на третьем - имение одного престарелого итальянского генерала где-то близ Рима.
Начинать, конечно, надо с Теплица. Опять, как и в истории с Бродянами, встает вопрос о рекомендации. Из энциклопедий узнаю, что Альфонс Кляри-и-Альдринген знатный и очень богатый магнат. До земельной реформы, проведенной в Чехословакии после 1918 года, ему принадлежало более десяти тысяч гектаров - по западно-европейским масштабам цифра огромная. Библиотека теплицкого замка пользуется европейской известностью.
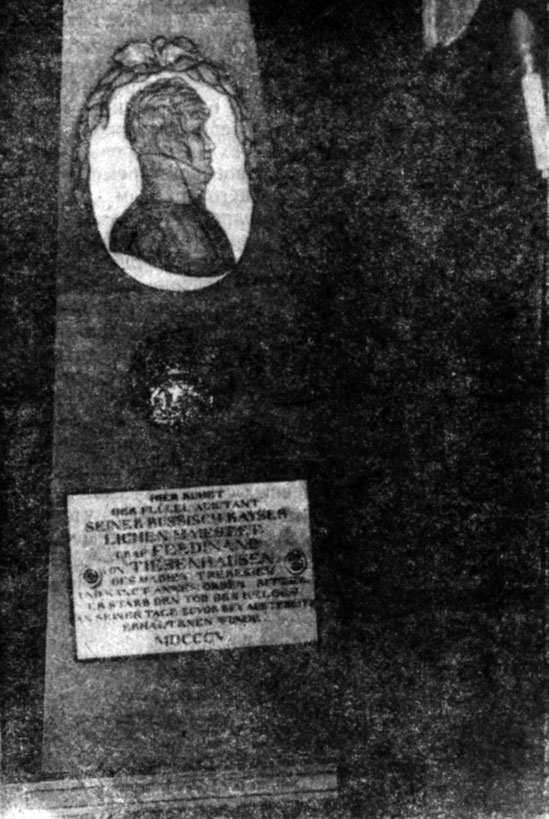
Надгробие перенесено из церкви Св. Духа Надгробие графа Фердинанда-Федора Тизенгаузена в соборной церкви г. Таллина. Фотография Т. П. Милютиной
В альманахе сказано, что Кляри - сын чешской княжны. От знакомых узнаю, что до войны он вообще держался больше чешской, чем немецкой линии. Это очень облегчает дело, но рекомендация все же необходима. На этот раз, просмотрев Готский альманах, вижу, что получить ее будет нетрудно. Мой хороший знакомый, убежденный чешский патриот князь Карл Шварценберг, правнук фельдмаршала, который считается победителем Наполеона в битве под Лейпцигом, оказался родным племянником Кляри. (Надо сказать, что национальность аристократов Средней Европы - зачастую вопрос убеждения, а не происхождения: оно почти у всех крайне смешанное). Шварценберг неплохо знает русский язык, перевел на чешский блоковских "Скифов", На мое французское письмо он отвечает по-русски - не совсем правильно, но вполне понятно. Его дядя не помнит, есть ли у него интересующие меня материалы. Просит сообщить подробно, о каких именно бумагах идет речь. Стороной узнаю, что по обстоятельствам военного времени владелец замка лишился своего заведующего архивом.
Посылаю в Теплиц очень подробное письмо. Запрашиваю между прочим, нет ли в замке дневника прадеда Кляри, Шарля-Луи Фикельмона, и альбома графини. Прикладываю серию фотокопий - образцы почерка Пушкина и его жены, Вяземского, Александра Ивановича Тургенева и других лиц, которых близко знала графиня Фикельмон. Особенно прошу поискать письма поэта. Чтобы заинтересовать владельца замка, сообщаю ему о том, что подвиг его прапрадеда, отца Дарьи Федоровны, увековечен Толстым в "Войне и Мире". Под Аустерлицем флигель-адъютант граф Фердинанд - Федор Тизенгаузен повел со знаменем в руках в контратаку расстроенный батальон, был тяжело ранен, взят в плен и после трехдневных страданий скончался.
В настоящее время мы имеем возможность уточнить дату смерти Ф. Тизенгаузена. В алтаре соборной церкви города Таллина (б. Ревель) находится, как мне сообщила Т. П. Милютина, обелиск с барельефом Тизенгаузена и надписью (на немецком языке):
Здесь покоится флигель-адъютант его величества императора Всероссийского граф Фердинанд фон Тизенгаузен, кавалер орденов Марии-Терезии и св. Анны. Он умер смертью героя от ранений, полученных накануне под Аустерлицем. MDCCCV (1805)

Барельеф Е. М. Хитрово на ее надгробии в Лазаревской усыпальнице (кладбище Александро-Невской лавры в Ленинграде).
В моей книге "Если заговорят портреты" я высказал предположение о том, что это не могила, а лишь мемориальный памятник - кенотаф, но оно оказалось ошибочным. Чешская исследовательница Сильвия Островская (Sylvie Ostrovska)1 сообщила мне, что на месте временного погребения Тизенгаузена близ Аустерлица (по-чешски, Славкова) еще в конце XIX столетия стоял крест.
1 (Чешская исследовательница Сильвия Островская (Sylvie Ostrovskd)...- В письме от 29 января 1968 она приводит следующие сведения: "Что касается отца Дарьи - графа Фердинанда - предполагаю, что он схоронен у Вас на Родине. Несколько лет тому назад, когда еще работала в Городском музее, нашла в одном старом журнале из конца прошлого века странную статью о смерти графа Тизенгаузен в деревне близко от Славкова, кресте, там воздвигнутом, и отвозе тела. Попытаюсь этот журнал отыскать, не помню, это был "Svetozor" или "Zlata Praha".
Моей корреспондентке разыскать упоминаемый ею журнал не удалось.)
Лев Толстой воспользовался опубликованным в печати рассказом о подвиге Тизенгаузена, создавая знаменитую сцену ранения князя Андрея.1
1 (...Создавая знаменитую сцену ранения князя Андрея.- Военный историк А. И. Михайловский-Данилевский, описывая сражение на Праценских высотах, куда Наполеон направил главный удар, говорит: "Громады французов валили на высоте с разных сторон. Кутузов понесся вперед и был ранен в щеку. (...). Любимый зять Кутузова, флигель-адъютант граф Тизенгаузен со знаменем в руках повел вперед один расстроенный батальон и пал, пронзенный насквозь пулею".2)
2 (Михайловский-Данилевский. Описание первой войны императора Александра с Наполеоном в 1805 году. Санкт-Петербург, 1844, стр. 183 - 184.
К. Покровский в статье "Источники романа "Война и мир"3 впервые включил этот отрывок в число материалов, использованных Толстым.)
3 (Война и мир. Сборник под редакцией В. П. Обнинского и Т. П. Полнера. М., 1912, стр. 117 - 118.))
Как будто все сделано... Остается ждать ответа. Жду с нетерпением. Я решил уравнение со многими неизвестыми и совсем не уверен в том, что нашел правильное решение.
Письмо, датированное 22 ноября 1942 года,1 приходит ишь недели через три. Кляри просит извинить его за заержку с ответом. Идет война, он очень занят. Дальше, альше... От волнения четкие строки расплываются у меня перед глазами. Мне будет выслана копия письма Пушкина к графине Дарье Фикельмон! Дневника прадеда не существует, но есть петербургский дневник прабабушки и в нем длинная запись о дуэли и смерти поэта, сделанная в день его кончины. Текст записи я также получу.
1 (ИРЛИ (ПД), ф. 374, № 53.)
Итак, уравнение решено правильно. Архив Фикельмонов найден, и в нем есть неизвестное письмо Пушкина. Существует дневник графини, о котором до сих пор не знал решительно никто.
Один из счастливейших дней мой жизни!..
Вскоре наступает другой, еще более счастливый. Мне подают заказной пакет с немецким штемпелем "Теплиц-Шенау". Сейчас там третий рейх. Почтальон-чех удивлен: вместо обычной кроны я даю ему двадцать. Осторожно вскрываю конверт. На стол падает копия французского письма Пушкина к графине Фикельмон от 25 апреля 1830 года из Москвы и еще одна машинопись. С волнением читаю неизвестные строки поэта. Потом принимаюсь за дневниковую запись: "Сегодня Россия потеряла своего дорогого, горячо любимого поэта Пушкина...". Сто пятьдесят строк французского текста. Сразу же вижу, что передо мной документ большой важности: нового в нем мало, но уже известное подтверждает независимая свидетельница, близко знавшая поэта. Рано или поздно биографы Пушкина, наверное, используют ее запись.
В тот же день пишу в Теплиц. Благодарю князя Кляри-и-Альдринген за услугу, которую он, дальний потомок Кутузова, оказывает науке о Пушкине. Благодарю от имени всех, кому дорога память нашего великого поэта.
С тех пор прошло более четверти века. Оба документа, машинописные копии которых мне удалось получить, опубликованы в наших академических изданиях. Обстоятельства сложились так, что принять участие в их изучении мне в свое время не пришлось. Точный текст письма Пушкина установлен теперь по фотокопии, присланной в Пушкинский Дом из Чехословакии, и приводится во всех новых изданиях сочинений поэта. Подлинник хранится в одном из государственных архивов ЧССР. Две тетради дневника Фикельмон, принадлежавшие ранее Кляри, вошли в состав филиала Государственного Архива в городе Дечине (Decin). В 1959 и 1960 годах в Праге и Вене вышли (на русском языке) работы профессора А. В. Флоровского, в которых довольно подробно изложено содержание дневника и приведен ряд выдержек, касающихся Пушкина.1
1 (А. В. Флоровский. Пушкин на страницах дневника графини Д. Ф. Фикельмон. "Slavia", Praha, 1959, rocn. XXVIII, ses. 4, стр. 555 - 578.
Antonij Vasil'evic Florovski. Дневник графини Д. Ф. Фикельмон. Из материалов по истории русского общества тридцатых годоз XIX века. Wiener slavistisches Jahrbuch, Graz-Koln, 1959, Bd. VII, стр. 49 - 99.
Указанные работы в дальнейшем цитируются сокращенно: Флоровский. Пушкин на страницах дневника; Флоровский. Дневник Фикельмон.)
Н. В. Измайлов дал русский перевод приведенных Л. В. Флоровским выдержек, относящихся к поэту.1
1 (Н. В. Измайлов. Пушкин в переписке и дневниках современников. 2. Пушкин в дневнике графини Д. Ф. Фикельмон, Временник Пушкинской Комиссии (Врем. ПК), 1962, М.-Л., 1963, стр. 32 - 37.)
Наконец в 1968 году итальянская исследовательница Нина Каухчишвили опубликовала в Милане почти полный текст первой тетради французского дневника графини с обширной вводной статьей "Дарья Федоровна Фикельмон-Ти-зенгаузен" (на итальянском языке) 1
1 (Nina Kauchtschischwili. H. diaridi Darja Fedorovna Ficquelmont. (Нина Каухчишвили. Дневник Дарьи Федоровны Фикельмон), Milano, 1968. В дальнейшем: Дневник Фикельмон.)
Давно изданные в Париже письма супругов Фикельмон к Е. Ф. Тизенгаузен остаются по-прежнему почти неиспользованными, хотя они очень интересны и хорошо дополняют петербургский дневник. В Праге мне в конце концов удалось получить это очень редкое издание из одной частной библиотеки, и я сделал из него много выписок.
Однако читатель, вероятно, уже давно подумал: кто же она такая, эта графиня Фикельмон, внучка Кутузова, супруга австрийского посла? Какова ее роль в жизни Пушкина?
Дарья Федоровна - дочь флигель-адъютанта Александра I штабскапитана инженерных войск графа Фердинанда - Федора Ивановича Тизенгаузена (1782 - 1805) и Елизаветы Михайловны, урожденной Голенищевой-Кутузовой, любимой дочери полководца.
Мы знаем, как геройски погиб совсем еще молодой Ти" зенгаузен, но о его жизни неизвестно почти ничего. Судя по барельефу на надгробии в Таллинском соборе, он был красивым офицером с крупными, но очень правильными чертами лица. Не портит профиля и довольно большой нос. Принятая тогда пышная прическа с напуском на лоб и александровские бачки флигель-адъютанта царя делают Тизенгаузена значительно старше его 23 лет. Он выглядит, в общем, привлекательным и, кажется, энергичным человеком.
В одном из писем Кутузова к дочери, Елизавете Михайловне,1 мы находим ласковый отзыв полководца о своем молодом зяте:
"Любезного Фердинанда благодарю за приписку, или лучше сказать за большое письмо".
"Если бы быть у меня сыну, то не хотел бы иметь другого, как Фердинанд".
1 (Князь М. И. Голенищев-Кутузов-Смоленский. Письма его к дочери графине Е. М. Тизенгаузен, во втором замужестве Хитрово. "Русская старина", 1874, июнь, стр. 337 - 377. Оригиналы большинства писем по-французски.)
Судя по воспоминаниям современников, смерть Тизенгаузена была большим личным горем для Кутузова, который его очень любил. Об этом несчастье он упоминает в нескольких письмах к своей жене и дочери-вдове, к сожалению, очень кратких и не содержащих фактических данных.1
1 (Письма Пушкина к Е. М. Хитрово. Л., 1927, стр. 149. В дальнейшем: Письма к Хитрово.)
Матери графини Фикельмон, Елизавете Михайловне, посвящено немало обстоятельных работ. Она родилась 19 сентября 1783 года1 и была, следовательно, на год моложе своего первого мужа. Потеряла его в 22 года. Свое горе она, видимо, переносила очень тяжело. Кутузов не раз пробовал ее утешать. Вскоре после Аустерлица он пишет Елизавете Михайловне: "Лизанька, мой друг сердечный, у тебя детки маленькие, я лучший твой друг и матушка; побереги себя для них. Жаль очень, что я не могу с тобой сейчас видеться. Я пойду с армией по другой дороге через Венгрию, куда тебе никак в теперешнее время доехать нельзя.2 Поезжай поскорее к своим деткам и к матушке (...)".
1 (Месяц и число, считавшиеся неизвестными, определяются по письму князя П. А. Вяземского к жене от 19 сентября 1832 года, в которое он сообщает, что "сегодня" празднуется день рождения Е. М. Хитрово. ('Звенья", IX, стр. 457).)
2 (По-видимому, во время похода Елизавета Михайловна, расставшаяся с маленькими дочерьми, сопровождала армию. В дни Аустерлица она, как можно думать, находилась в Тешене (ныне Чехословакия), Смерть мужа от нее сначала скрывали.)
15 января 1806 года в письме из Брод Михайл Илларионович сообщает: "Слышу, что ты поехала в Ревель. Жаль, душенька, что там будешь много плакать. Сделаем лучше так: без меня не плакать никогда, а со мной вместе (...)".
Горе, однако, не утихало долго. В этом отношении многозначительно письмо Кутузова из Киева от 27 мая (1807 года?) :1 "Лизанька, решаюсь наконец тебя пожурить: ты мне рассказываешь о разговоре с маленькой Катенькои, где ты ей объявляешь о дальнем путешествии, которое ты намереваешься предпринять и которое все предпримем, но желать не смеем, тем более, когда имеем существа, привязывающие нас к жизни".
1 ("Русская старина", 1874, июль, стр. 34.)
Можно думать, что публикатор ошибся, отнеся это письмо к 1807 году - Катеньке в это время было четыре года, и вряд ли мать могла ей говорить о своем желании умереть. Впрочем, все могло статься - Елизавета Михайловна - женщина умная и добрая, но странности у нее были немалые...
Почитатели Пушкина знают ее под фамилией второго мужа - Хитрово. Всю жизнь она была стойкой русской патриоткой, хотя, как и многие светские дамы ее круга, с трудом писала по-русски (а по-французски, к слову сказать, с грубыми ошибками, чем, однако, грешили тогда не только русские, но и некоторые аристократки-француженки). Славу своего великого отца Елизавета Михайловна любила так сильно, что не совсем по праву подписывалась иногда "урожденная княжна Кутузова-Смоленская", хотя полководец получил этот титул, когда его дочь была уже замужем.
Любила она и отечественную литературу. Лично знала и постоянно Принимала у себя некоторых русских писателей - В. А, Жуковского, князя П. А. Вяземского, графа В. А. Соллогуба, А. И. Тургенева, поэта-слепца И. И. Козлова.1 Познакомившись (вероятно, летом 1827 года) с Пушкиным, Елизавета Михайловна Хитрово вскоре стала одним из самых преданных друзей поэта. Об ее патриотизме и дружбе с Пушкиным надо помнить и в повествовании о графине Фикельмон. За исключением немногих лет мать все время жила вместе с дочерью.
1 (Сзедения о том, что в петербургском салоне Е. М. Хитрово бывал и молодой Гоголь, едва ли соответствуют действительности.)
Старшая из сестер, Екатерина Тизенгаузен, родилась в 1803 году; младшая, Даша, 14 октября 1804 года. Об ее раннем детстве мы знаем только по письмам Кутузова к Елизавете Михайловне и по немногим упоминаниям в дневнике Дарьи Федоровны. Первые одиннадцать лет своей жизни будущая графиня Фикельмон провела вместе с сестрой в Ревеле у бабушки Тизенгаузен, урожденной Штакельберг (1753 - 1826), которую она очень любила и считала своей второй матерью. Обстановка, в которой росли девочки, была далеко не роскошной - графиня впоследствии вспоминает в дневнике о "простых и однообразных нравах и обычаях маленького города или северной деревни.1 Что это за "северная деревня", мы не знаем,- вероятно, эстляндское имение Тизенгаузен. Мать подолгу живала вместе с дочерьми у родственников покойного мужа. Лето проводила у них, либо ездила с девочками на дачу в Стрельну под Петербургом. Порой предпринимала и далекие поездки: в Бухарест к отцу, в Крым, но дочери в это время оставались у бабушки.
1 (Дневник Факельнон, стр. 7.)
С раннего детства они знают и французский и немецкий. В свои русские письма к старшей внучке Кутузов то и дело вставляет отдельные фразы на этих языках. Иногда пишет ей целиком по-немецки. Впоследствии обиходный язык Фикельмон главным образом французский, но хорошее знание немецкого языка, несомненно, помогало ей лучше понимать жизнь Центральной Европы. Из писем Кутузова видно, что девочки учатся и родному языку. Однако будем помнить, что Даша Тизенгаузен с детства жила в нерусской среде и, кроме Ревеля и Петербурга с окрестностями, кажется, нигде больше в России не бывала.
В 1811 году, через шесть лет после смерти Ф. И. Тизенгаузена, ее мать выходит вторично замуж за генерал-майора Николая Федоровича Хитрово (1771 - 1819). Елизавете Михайловне 28 лет.
Пытаясь проследить жизненный путь Дарьи Федоровны, приходится пока постоянно делать оговорки - "по-видимому", "вероятно", "может быть". Очень многого мы о ней не знаем точно или совсем не знаем. Мало что известно и об ее отчиме, но все же значительно больше, чем об отце.
Отвечая на письмо дочери, которая, видимо, известила его о предстоящей свадьбе, Кутузов, находившийся в это время в Бухаресте, пишет ей 13 августа 1811 года: "С каких пор, дорогое мое дитя, считаешь ты меня тираном своих детей? Как ты могла считать меня способным сказать: не делай этого и оставайся несчастной? и что мог бы я возразить против брака с г. Хитровым? (...). Я долго соображал, кто же мой зять, и наконец разыскал его в своей памяти: молодой человек,1 статный, немножко хилый, очень умный и очень порядочный человек, впрочем насмешник. Я хорошо представляю себе г. Хитрова, и если когда-нибудь вернусь к вам, то отлично уживусь с ним. Если у тебя есть обычаи его целовать, сделай это от меня. Да почему он мне не напишет?".
1 (Н. Ф. Хитрово в 1811 году было уже 40 лет - возраст, по понятиям того времени, далеко не молодой.)
Несмотря на заочный поцелуй, переданный новому зятю, в письме Кутузова не чувствуется, однако, той сердечности, которая ощущается в нескольких известных нам строках, где Михаил Илларионович говорит о "любезном Фердинанде".
Довольно подробную характеристику Хитрово дает П. А. Вяземский.1 Надо сказать, что она лишь отчасти совпадает с мнением Кутузова. Вяземский считает что "он был умен, блистателен и любезен; товарищи и молодежь очень любили его. Он был образован и в своем роде литературен". Офицеру-гусару приходилось, однако, тщательно скрывать свои литературные интересы от гуляк товарищей по полку. Вяземский, со слов Алексея Михайловича Пушкина, повествует о том, как испугался Хитрово, когда во время офицерской пирушки Алексей Михайлович обнаружил в его гусарской сумке (ташке) томик элегий Парни. "Ради бога молчи и не выдавай меня,- сказал он,- (...) как скоро проведают они (товарищи по полку.- Н. Р.), что занимаюсь чтением французских книг, я человек пропавший, а мне в полку житья не будет".
1 (Из "Старой записной книжки". "Русский архив", 1877, кн. 1, стр. 512 - 513.)
Николай Федорович, несомненно, умел нравиться людям - и притом людям очень разным. "Хитров был очень любим великим князем Константином Павловичем, который умел ценить ум и светскую любезность". По словам Вяземского, к нему благоволил и Александр I. Весьма, правда, склонный к преувеличениям граф Ф. Г. Головкин утверждает, со слов Хитрово, что царь "...всегда был его другом".1
1 (Федорор Головкин. Двор и царствование Павла I. M., 1912, стр. 356.)
Все эти сведения говорят скорее в его пользу - обходительность да и житейскую ловкость, если она не переходит в непорядочность, вряд ли можно считать недостатком. Если же переходит... Кутузов - не знаем, искренне или нет - считал своего нового зятя "очень порядочным". От воспоминаний Вяземского остается в этом отношении впечатление несколько неясное. По его словам, Хитрово был "чем-то вроде Дон-Джовани" и "...на разные проделки в этом роде был не очень совестлив". "Не удастся ему, например, достигнуть где-нибудь цели в своих любовных поисках, он вымещал неудачу, высылая карету свою, которая часть ночи и стоит неподалеку от жительства непокорившейся красавицы. Иные подмечали это, выводили из того заключения свои; с него было и довольно".
В начале XX века за такого рода проделку (если, конечно, речь шла о "порядочной женщине") суд чести мог предложить офицеру уйти из полка, но в конце XVIII столетия нравы были иные... В связи с любовными историями российский "Дон-Джовани" служебным неприятностям, по-видимому, не подвергался.
Он тем не менее мог попасть под суд, но совсем по другой линии - против него было возбуждено редкое по тем временам дело по обвинению в жестоком обращении с крепостными крестьянами.
11 мая 1794 г. императрица Екатерина писала Н. П. Архарову:1 "Дошло до сведения нашего, что гвардии Преображенского полку поручик Николай Хитрово и сестры его девицы Катерина и Наталия, живущие в Москве, владея деревнею (...) отягощают крестьян своих выше меры, продают на выбор их порознь по душам, отпуском таковых же на волю со взятием с каждой души по триста рублей, и что сверх того в нынешнем году выбрано с деревни и выслано в Москву к сущему разорению семейств их тридцать девок и одна вдова с дочерью, намереваясь и всех годных распродать порознь (...)".
1 (Из бумаг Николая Петровича Архарова. "Русский архив", 1864, вып. 9, стр. 908 - 909. Н. П. Архаров (1742 - 1814) - московский обер-полицмейстер.)
Императрица, "желая положить предел подобным поступкам", повелела Архарову "во всей подробности осведомиться под рукой и нам обстоятельно донести, справедлив ли вышесказанный слух, до нас дошедший, так же в каком состоянии теперь находятся крестьяне сих помещиков и в каком числе душ". Из дальнейшего текста письма можно, однако, заключить, что царица намеревалась выкупить в казну и деревню и крестьян. Наказание для жестоких помещиков, надо сказать, не очень серьезное...
Чем это дело закончилось, мы не знаем. На будущей карьере Н. Ф. Хитрово оно, во всяком случае, не отразилось.1
1 (На будущей карьере (...) не отразилось.- Можно все же думать, что из лейб-гвардии Преображенского полка поручик Хитрово был переведен в гусарский (судя по малой культурности офицеров,- один из армейских) не по собственному желанию.)
Судя по всем отзывам, он, действительно, был человеком неглупым, но никакими выдающимися способностями не обладал. Не был причастен и к подвигам воинским. В Отечественной войне по слабости здоровья не участвовал, о чем его тесть, Кутузов, упоминает с некоторой иронией. "Что поделывает Хитров с его несчастным здоровьем?" (Письмо к Елизавете Михайловне от 2 октября 1812 года).
В книге "Если заговорят портреты" я посвятил отчиму Д. Ф. Фикельмон лишь несколько строк, так как не было никаких сведений о том, какую роль он играл в ее жизни. Меня побудило ближе присмотреться к его облику появление труда Н. Каухчишвили, в котором автор приводит выдержку из письма графини к мужу от 7 апреля 1823 года из Флоренции.1 Об умершем четыре года назад Н. Ф. Хитрово Дарья Федоровна говорит: "Образ отчима (bоп-рара),2 которого мы так любили и которого потеряли здесь, не покидает меня. Я вспоминаю все эти ужасные моменты".
1 (Дневник Фикельмон, стр. 10.)
2 (Обычно "bonрара" значит "дедушка" (в фамильярной речи).)
9 апреля 1829 года 1 она пишет в дневнике о своем муже, что он является одним из тех редких людей, у которых "...есть нечто, что возвышает их над ничтожеством нашего мира. Я знала трех людей, наделенных богом этим благом, которое он, как кажется, бережет так ревниво и раздает так скупо - это папа,2 царь Александр и Фикельмон".
1 (Записки в дневнике, хранящемся в г. Дечине, начинаются с 28 февраля 1829 года, но до приезда Фикельмонов в Петербург (в ночь с 29 на 30 июня ст. ст.); публикатор приводит из них только выдержки.)
2 (Д. Ф. Фикельмон, несомненно, говорит здесь об отчиме; отец Тизенгаузен шел второй год.)
Итак, Дарья Федоровна, безусловно, любила отчима и приписывала ему достоинства необыкновенные - так же, как и недавно умершему царю. Об Александре I речь будет впереди...
В 1815 году сорокачетырехлетний генерал Хитрово назначается российским поверенным в делах при великом герцоге Тосканском. Семья переезжает во Флоренцию. Даше в это время одиннадцать лет. Для девочки начинается новая жизнь, совсем уже далекая от России и скромных ревельских нравов. В дневнике она вспоминает о внезапном переезде "в среду самого высшего света и самых элегантных обычаев", где она провела "молодость, полную праздников, самых блестящих удовольствий - все это на юге, ах! какой сон!" (Запись 23 марта 1833 года).1
1 (Флоровский. Дневник Фикельмон, стр. 51. Каухчишвили. Дневник Фикельмон, стр.7.)
Во Флоренции проходит конец детства и юность Даши Тизенгаузен. Мы увидим в дальнейшем, что и в зрелые годы графиня Фикельмон была необыкновенно восприимчива ко всему прекрасному в жизни. Можно думать, что эта чуткость развилась у нее именно в столице Тосканы, где так много художественных сокровищ. Искусство там издавна срослось с повседневной жизнью. Чуть не каждая церковь расписана великими мастерами эпохи Возрождения. На улицах и площадях сколько-нибудь внимательный глаз не пропустит статуй, созданных в эту эпоху художественного расцвета Италии. Картинные галереи полны творений мирового значения.
Чудесный город... По вечерам золотистый полусвет скрадывает линии старинных зданий, терпко пахнут разогревшиеся за день кипарисы и от мутной реки Арно тянет влажным теплом. В ноябре Флоренция еще полна роз, в феврале ее сады окутаны розовыми облаками цветущего миндаля.
Легко себе представить, как жизнь там влияла на подраставшую девочку. Так и видишь ее вместе с матерью и сестрой в галерее Уффици перед знаменитой "Весной" Ботичелли или в церкви Сан-Лоренцо перед гробницами герцогов Лоренцо и Джульяно Медичи, изваянными Микеланджело, или просто на улице, любующейся порталом храма Санта-Мария дель Фьоре.
И пусть читатель не посетует на меня за эти флорентийские подробности - мы увидим, что в духовном облике графини Фикельмон навсегда осталось многое от Италии, ее любимой, по-настоящему родной страны.
П. И. Бартенев, хорошо знавший многих современников графини, говорит, что обе сестры "получили отличное образование во Флоренции".1 Учились девочки, надо думать, дома у гувернанток и приходящих учителей разных национальностей. Так учился маленький граф М. Д. Бутурлин, живший в то время с родителями во Флоренции. У Бутурлина был русский учитель,2 но обучал ли он и девочек Тизенгаузен, неизвестно. Во всяком случае, живя за границей, Дарья Федоровна, как мы увидим, совсем забыла разговорный русский язык, но когда началось это забвение, сказать трудно,- может быть, во Флоренции, может быть, позже, во взрослые годы. Удивляться этому не приходится. Современницы Пушкина, никуда из России не выезжавшие, и те, по его словам:
Не все ли, русским языком Владея слабо и с трудом, Его так мило искажали, И в их устах язык чужой Не обратился ли в родной?
1 (П. И. Бартенев. Рецензия на книгу Сони. "Русский архив", 1911, кн. III., № 9, 2-я обложка.)
2 (Записки графа М. Д. Бутурлина. "Русский архив", 1897, кн. I, № 4, стр. 594.)
У Долли Тизенгаузен, как ее стали звать во Флоренции, к тому же прибавилось там еще два иностранных языка - английский и итальянский. Дома, по дворянскому обычаю того времени, наверное, говорили по-французски. Была ли в семье Хитрово русская прислуга, неизвестно {переехав с господами границу, крепостные по закону становились вольными).1
1 (...переехав с господами границу, крепостные по закону становились вольными.- При отъезде в 1823 году Е. М. Хитрово с дочерьми из Петербурга в ее штате упоминается "камер-юнгфера" (горничная) Елизавета Воронина, российская подданная".2 Неизвестно, однако, служила ли она раньше (за границей) в семье Хитрово.)
2 ("Санктпетербургские ведомости", 1823, № 71, вторник, 4 сентября, "Отъезжающие".)
Семейства Бутурлиных и Хитрово очень сблизились. Можно поэтому думать, что многие подробности быта тогдашних русских флорентийцев, которые приведены в записках Бутурлина, относятся и к семье русского поверенного в делах.1 По словам автора, русских, постоянно живших во Флоренции, было очень мало. Наезжали иногда из России знатные путешественники.2 Жизнь проходила по-иностранному. При дипломатической миссии не было и церкви. Отец Бутурлина устроил крошечную домашнюю церковку в занимаемом им доме, но служил в ней священник-грек, исповедывавший русских по-итальянски.
1 (Записки графа М. Д. Бутурлина. "Русский архив", 1897, кн. 1, №4, стр. 588, 592, 596.)
2 (В действительности, как мы увидим, во Флоренцию русские приезжали часто и надолго.)
Немудрено было Долли Тизенгаузен разучиться русскому языку.
Н. Каухчишвили, подробно изучавшая флорентийский период жизни Долли Тизенгаузен, отмечает, однако, что, начиная с 1818 года, приток русских путешественников в столицу Тосканы заметно усилился.
В своей книге1 граф Ф. Г. Головкин подробно говорит о русской флорентийской колонии 1810 и 1817 годов. Как и Н. Каухчишвили, он называет многочисленных представителей русской знати, проживавших тогда во 'Флоренции. Перечислить их целиком было бы излишне. Назовем лишь некоторых: обер-гофмаршал А. Л. Нарышкин, его дочь княгиня Е. А. Суворова; известный адмирал П. В. Чичагов; граф (впоследствии князь) В. П. Кочубей; отец будущего декабриста московский богач С. М. Лунин с многочисленной семьей; граф Аркадий Иванович Марков (он же Морков), состоявший во времена Наполеона русским послом в Париже, и многие другие. Проездом были во Флоренции дамы, перешедшие в католичество, княгиня Е. П. Гагарина и Е. Н. Толстая.
1 (Федор Головкин. Двор и царствование Павла I. M., 1912, стр. 346 - 379.)
Процветавшая в то время сравнительно благоустроенная Флоренция, по-видимому, была излюбленным городом русских путешественников.
Через несколько лет (в 1823 году) Шарль де Флао (de Flahaut) писал из Петербурга своей флорентийской приятельнице, графине д'Альбани: "Я не чувствую себя иностранцем в этом огромном городе. Здесь очень мало людей хорошего общества, которые не побывали бы в вашем салоне (...). Я никогда не кончу, если стану перечислять всех особ на "off", которые имели честь вас знать. Я нахожу, что петербургское общество, в действительности, все побывало в Италии".1
1 (Дневник Фикельмон, стр. 15.)
Долли Тизенгаузен, несомненно, видела многих из этих знатных путешественников в апартаментах русской миссии.
Несмотря на свой скромный пост поверенного в делах, генерал Хитрово, как мы узнаем из воспоминаний полюбившего его Ф. Г. Головкина, жил очень широко и нерасчетливо. Приехав во Флоренцию, Головкин в первом же письме к двоюродной сестре г-же Местраль д'Аррюфон (10 ноября 1816 года) сообщает: "Русский посланник умен и приятен в обращении, но он большею частью бывает болен, а страшный беспорядок в его личных делах налагает на него отпечаток меланхолии и грусти, которые он не может скрыть. Его образ жизни лишен здравого смысла. По вторникам и субботам у него бывает весь город, и вечера заканчиваются балом или спектаклем. По поводу каждого придворного события он устраивает праздник, из коих последний ему стоил тысячу червонцев.1 При таком образе жизни он задолжал Шнейдеру за свою квартиру и во все время своего пребывания во Флоренции берет в долг картины, гравюры, разные2 камни. Его жена скорее некрасива, чем красива, но она романтически настроена, не мажется, в моде, хорошо играет трагедию3 и горюет о своем первом муже, покойном графе Тизенгаузене (...), а также о своем славном старике-отце Кутузове. (...) Словом, все в этом открытом доме преувеличено, хотя и вполне прилично".
1 (Я уже отметил склонность Ф. Г. Головкина к преувеличениям. Тем не менее сообщаемые им сведения о жизни семьи Хитрово во Флоренции, представляют значительный интерес. Никто из других авторов их не приводит.)
2 (Вероятно, не "разные", а "резные", т. е. камеи.)
3 (Не имея возможности ознакомиться с подлинником, я принужден цитировать перевод Кукеля, местами довольно неуклюжий.)
В доме Хитрово устраивались любительские спектакли, в которых участвовала также Елизавета Михайловна и (по-видимому) ее старшая дочь Екатерина. "Г-жа Хитрово поочередно должна изображать то г-жу Жорж, то г-жу Дюшенуа,1 и после впечатления, которое она производила своим талантом, публике приходится не меньше удивляться переменам ее костюмов для каждой сцены, а также силе ее легких".2
1 (Знаменитые трагические актрисы того времени.)
2 (Е. М Хитрово обладала сильным голосом и пела в домашей церкви Бутурлиных во Флоренции.)
Среди многочисленных временных флорентийцев было немало знакомых и родственников Бутурлиных, особняк которых стал своего рода русским центром Флоренции. "Открытый дом" русского поверенного в делах, в котором, по словам Головкина, бывал "весь город", по-видимому, носил более международно-европейский характер, хотя иностранцы бывали и у Бутурлиных.
Однако девочкам Тизенгаузен, если бы они того хотели, было с кем и дома поговорить по-русски - прежде всего, конечно, с родителями. Почти наверное они не хотели... И родные и знакомые - частица русского большого света, перенесенная в Италию, и говорили и писали по-французски. Надо, однако, сделать оговорку - лишь немногие русские, подобно Пушкину, владели этим трудным, синтаксически очень сложным, веками разрабатывавшимся языком, как образованные французы. Приходится согласиться с Н. Каухчишвили - Долли Тизенгаузен слышала во Флоренции не живую речь Франции того времени, а, скорее, международный язык высшего общества XIX века...
Круг знакомых ее родителей я самой Долли был, естественно, шире, чем у Бутурлиных. Альбом, хранящийся в фонде Фикельмонов в городе Дечине, показывает, например, что среди подруг юных графинь Тизенгаузен было немало итальянских аристократок. Были и знатные польки - в том числе дочь тогдашнего русского министра иностранных дел князя Адама Чарторийского. Для дочерей русского посланника не существовало "...пропасти, которая отделяла иностранцев от тосканцев".1
1 (Дневник Фикельмон, стр. 18.)
Среди посетителей салона родителей двенадцатилетнгя Долли, несомненно, видела в 1816 году и, можно думать, навсегда запомнила М-mе де Сталь. Знаменитая писательница во время своего пребывания во Флоренции познакомилась с семьей русского поверенного в делах. В одном из писем к своей тамошней приятельнице, графине Луизе д'Альбани, она просит ее рекомендовать некую леди Джерсей супругам Хитрово, которые "должны хорошо принять в своем салоне эту очаровательную особу".1 Недавно чешская исследовательница Мария Ульрихова2 опубликовала в Праге небольшое любезное письмо М-те де Сталь к генералу Хитрово, в котором содержится подобная же просьба:
1 (Дневник Фикельмон, стр. 15.)
2 (Marie Ulriсhоva. Lettres de Madame de Stael conservees en Boheme. (Мария Ульрихова. Письма M-me де Сталь, хранящиеся в Чехии). Prague, 1959, стр. 79. Письма опубликованы с сохранением очень неправильной орфографии и пунктуации автора.)
"Его Превосходительству генералу Хитрово, посланнику Русского Императора во Флоренции.
Я вам писала из Болоньи, дорогой генерал, и вы мне не ответили - таковы русские, в тысячу раз более легкомысленные, чем французы. Несмотря на свое злопамятство, я рекомендую вам господина и госпожу Артур, моих знакомых ирландцев, которые год тому назад собирали в своем салоне в Париже самое приятное общество - попросите госпожу Хитрово, у которой столько любезной доброты, хорошо их принять ради меня и постарайтесь вспомнить о моих дружеских чувствах к вам, чтобы оживить ваши. До свидания. Все, окружающие меня1, вспоминают о вас и,- на самом деле,- это очень нужно.
Коппе2 22 августа 1816. С дружеским приветом Н(еккер) де Сталь Г(ольштейн)".
1 (Вероятно М-те де Сталь имеет в виду сына Августа, немецкого писателя Вильгельма Шлегеля и своего друга Альберта Рокка, сопровождавших ее во время путешествия по Италии.)
2 (Швейцарская резиденция де Сталь.)
Генерал Хитрово, очевидно, умел нравиться и некоторым большим людям в Европе. Письмо М-те де Сталь показывает, что между ней и русским генералом существовали, если и не дружеские, то все же очень хорошие отношения. В противном случае знаменитая и уже очень немолодая писательница1 не обратилась бы снова к человеку, который не потрудился ей ответить. Вероятно, извинила хорошо ей известные неосновательность и легкомыслие Хитрово.
1 (В 1816 году М-те де Сталь (1766 - 1817) было 51 год. Год спустя она умерла.)
Очень рано - лет с четырнадцати, если не с тринадцати, Долли начала "выезжать в свет" вместе с матерью и сестрой. Во Флоренции, надо сказать, единого высшего общества не было. Католическая итальянская аристократия держалась особняком. Иностранцев там принимали неохотно. Очень замкнутая, чинная и довольно скучная среда, особенно старшее поколение.
Был во Флоренции и двор. Не бог весть какой государь великий герцог Тосканский, но жил Фердинанд III в своей резиденции, дворце Питти, как монарх великой державы. Английская путешественница, леди Кемпбелл, побывавшая в 1817 году на придворном празднестве, пишет в своем дневнике: "Устройство дворцовой службы, число прислуги и стражи намного превосходит то, что видишь при наших дворах".1 Возможно, что во Флоренции на протяжении веков сохранялась по традиции пышность Лоренцо Великолепного.
1 (Дневник Фикельмон, стр .17.)
Семья русского поверенного в делах не только бывала во дворце, но и близко познакомилась с родными герцога. Молодая наследная принцесса Анна-Каролина (1799 - 1832), для Долли Тизенгаузен просто "Нани", стала ее любимой старшей подругой. Впоследствии, когда Анна-Каролина, с 1824 года великая герцогиня Тосканская, мучительно умирала, Дарья Федоровна записала в дневнике 16 декабря 1831 года: "Столько лет уже я люблю ее, как сестру (...), дня не проходит, чтобы я мысленно не была с ней. Это подлинная любовь, а для нее не существует ни времени, ни разлуки".1
1 (Там же, стр. 179.)
Для нас эта дружба, завязавшаяся в те годы, когда Долли была еще девочкой-подростком, интересна тем, что, по всему судя, будущая посольша почти с детства привыкла обходиться запросто с "высокими" и "высочайшими" особами и видеть в них просто людей.
Нам еще придется вернуться к этому качеству графини Фикельмон по поводу одной необыкновенной страницы ее жизни, которая только сейчас становится известной.
Сестра Долли, Екатерина, по-видимому, несмотря на свою молодость, была в приятельских отношениях с мужем Анны-Каролины, наследником тосканского престола, герцогом Леопольдом (1797 - 1870). В письмах 1848 года к сестре графиня Фикельмон не раз называет его "ton ami de Florence" - "твой флорентийский друг". Однако сама Долли почему-то относилась к этому герцогу довольно неприязненно.
Мне думается поэтому, что при всей своей любви к "Нани" она не очень охотно бывала в пышном дворце Питти с его все же стеснительным этикетом.
Вероятно, молоденькой девушке веселее было в другом кругу. Его составляли знатные и, во всяком случае, богатые туристы разных национальностей, главным образом англичане и американцы. На балу и в этом международном обществе графиню Долли увидел однажды французский путешественник Луи Симон, судья взыскательный и строгий. В своей книге1 он находит манеры молодых англичанок и американок чересчур развязными. Зато падчерицей русского дипломата он не налюбуется. "Видите, сказал я в свою очередь синьору Фаббрини (...) эту молодую особу, которая не менее прекрасна, чем предмет ваших сарказмов, но, по-видимому, сама этого не замечает. Она вернулась к матери после танца и, как кажется, боязливо колеблется, принять ли ей руку подошедшего кавалера. С одной стороны, у нее откровенное желание продолжить, а с другой страх за то, не слишком ли много она танцевала, но ни малейшей степени расчета. Она непосредственна и восприимчива - один нежный и встревоженный взгляд матери заставляет ее решиться и отклонить самым любезным образом обращенное к ней приглашение. Видите, она набрасывает шубку и собирается уезжать".
1 (Louis Simond. Voyage en Italie et en Sicile. (Луи Симон. Путешествие в Италию и Сицилию, т. I, Paris, 1828, стр. 122 - 123 (франц.).)
Луи Симон замечает дальше, что русская барышня очень напоминает ему по своему облику англичанку, но англичанку хорошо воспитанную.
В начале 1817 года генерала Хитрово постигла служебная и денежная катастрофа; возможно, что та и другая были связаны между собой. До сих пор мы знали о них очень мало. Все тот же Ф. Г. Головкин, подружившийся с русским дипломатом и принимавший большое участие в упорядочении его донельзя запутанных дел, сообщает об этой печальной истории ряд подробностей, которые, по-видимому, соответствуют истине.
25 марта этого года он пишет своей французской кузине Местраль д'Аррофон: "В один прекрасный день ко мне является генерал Хитрово, в страшно расстроенном виде (...) он сознался, что в том отчаянном положении, в котором находятся его дела, и в тот момент, когда он ожидал помощи,1 ставшей для него необходимой, он получил ошеломляющее известие о потере своего места; что это место совсем упразднено,2 и что ему отказывают в какой-либо помощи; и, наконец, что немилость эта по-видимому решена бесповоротно, так как ему предоставляют маленькую пенсию, но с условием, чтобы он оставался жить в Тоскане".
1 (От императора Александра I.)
2 (В целях сокращения расходов по дипломатическому представительству обязанности поверенного в делах были переданы русскому послу в Риме Л. Я. Италинскому.)
Н. Ф. Хитрово, очевидно, впал в Петербурге в немилость. Возможно, что она была вызвана тем, что до столицы дошли сведения об его неразумных тратах и безнадежном финансовом положении. Поверенному в делах, должность которого упразднялась, не только не предоставили другой пост, но - мало того (если не ошибается Головкин) - поставили условием для получения пенсии жить по-прежнему в Тоскане. Эта совершенно необычная мера, быть может, имела целью побудить Хитрово уплатить свои крайне неуместные для дипломата долги.
Выяснением их занялся Головкин.1 21 апреля 1817 года Федор Гаврилович пишет своей французской кузине: "Генерал Хитрово переносит свое несчастие мужественно (...). Он все продает и рассчитывается со своими кредиторами; свое хозяйство он упразднил и нанял маленькую квартиру".
1 (Ф. Г. Головкин, надо сказать, был русским только по имени. Он принадлежал к заграничной, совершенно обиностранившейся ветви этого графского рода, был лютеранином и совершенно не знал русского языка.)
Таким образом, совсем еще девочкой (ей было 12 лет), Долли Тизенгаузен после "открытого дома", где постоянно устраивались (в долг) роскошные приемы, снова попала в очень скромную обстановку. Об этой флорентийской катастрофе семьи в известных нам писаниях Дарьи Федоровны упоминаний нет. Впрочем, придворные круги и высокопоставленные знакомые, узнав о несчастии, постигшем генерала, от семьи Хитрово не отвернулись. По словам Головкина, "Все устроилось как нельзя лучше (...). Двор и общество выказали еще больше участия, чем мог ожидать этот бедняга. Для меня это было большое утешение...".
Головкин сообщает также: "Далее было решено, что г-жа Хитрово поедет в Петербург, чтобы отыскать какие-нибудь средства и предотвратить полное разорение (...)".
Долли Тизенгаузен и ее сестра, несмотря на все, что произошло, сохранили все свои знакомства. Прекратились домашние приемы, но в остальном жизнь юных графинь шла по-прежнему.
Через два года семью постигла тяжкая утрата. Давно уже прихварывавший Николай Федорович Хитрово после долгой и мучительной болезни скончался 19 мая 1819 года. Похоронили его в Ливорно. В жизни Долли смерть любимого отчима была первым большим горем.
Овдовев вторично, Елизавета Михайловна не покинула Флоренции. По словам А. Я. Булгакова, после смерти Николая Федоровича она одно время даже осталась "в прежалком положении, с долгами и без копейки денег".1
1 (Письмо А. Я. Булгакова к брату от 13/25 июня 1819 года. "Русский архив", 1900, кн. III, стр. 206.)
Если вспомнить то, что недавно писал о денежных делах покойного ныне генерала хорошо его знавший Ф. Г. Головкин, придется признать, что, вероятно, и Булгаков говорит правду. Тем не менее, будучи вдовой генерал-майора, Елизавета Михайловна вскоре должна была получить полагающуюся ей по закону небольшую пенсию. Ее, конечно, не хватило бы для далеких разъездов, а между тем в 1820 году Е. М. Хитрово побывала с дочерьми в Неаполе.1 По крайней мере однажды - когда именно, пока неизвестно - совершила с ними большую поездку в Центральную Европу. Несомненно, побывала в Вене, где императрица-мать прозвала Долли "Сивиллой флорентийской" - в дальнейшем мы узнаем почему. По всей вероятности, в эти трудные для нее годы Елизавета Михайловна получала поддержку от родных из России.
1 (...побывала с дочерьми в Неаполе.- По всей вероятности к этому времени относится очень резкий отзыв приятеля Пушкина кн. Д. И. Долгорукова о попытках Елизаветы Михайловны поскорее устроить судьбу обеих дочерей. 6 октября (год не указан) он пишет брату из Италии: "Г-жа Хитрово имеет вид серого (...) торгаша, который ездит по всем ярмаркам, чтобы за хорошую цену продать свой товар, который заключается в двух прелестных дочерях".2)
2 ("Русский архив", 1915, кн. I, стр. 72.)
Духовно привлекательная и житейски опытная Е. М. Хитрово сумела создать себе и, прежде всего, подросшим дочерям блестящее положение в европейском "большом свете". Славное имя Кутузова знали, конечно, и иностранцы, но вряд ли оно производило на них большое впечатление. Истинную роль великого полководца в победе над Наполеоном и у нас ведь поняли много позже. Графы Тизенгаузен - древний немецкий род, но и только. В толстой "Справочной книжке графских домов" таких семей множество. Еще меньше могла говорить иностранцам стародворянская, но не титулованная фамилия Хитрово. Между тем среди личных друзей Елизаветы Михайловны и ее дочерей в начале двадцатых годов мы находим прусского короля Фридриха-Вильгельма III,1 герцога Леопольда Саксен-Кобургского, впоследствии бельгийского короля, и много других членов королевских и владетельных домов Германии, Австрии и Италии, не говоря уже о многочисленных представителях самых верхов аристократии.
1 (...прусского короля Фридриха-Вильгельма 111.- В 1825 году молодая чешская графиня Сидония (по-чешски Здена) Хотек писала во Францию баронессе Монте, приятельнице своей тетки Терезы Хотек: "Вы, конечно, давно знаете о женитьбе прусского короля на М-11е Гаррах (...). Уже несколько лет он (отец Гаррах. - И. Р.) живет в Саксонии, откуда его дочь приехала в Теплиц, где король с ней и познакомился. Кляри тем более удивлены этим браком, что король казался сильно влюбленным в М-llе Екатерину Тизенгаузен, которую, говоря по правде, мать все время старалась с ним сблизить (mettait toujours dans son chemin). Госпожа Хитрово как-то на днях сказала моей тетке Кляри: "Поймите вы короля! Вы же, однако, видели, как он был влюблен в мою дочь; но это был бы неподходящий брак для внучки генерала Кутузова".2
Графиня Екатерина королевой Пруссии (как и гр. Гаррах) стать, конечно, не могла. Речь, очевидно, шла о морганатическом браке, который Елизавета Михайловна объявила неподходящим для внучки Кутузова лишь после того, как ее план выдать дочь за короля не удался. Приходится признать, что в данном случае ум и житейская опытность Е. М. Хитрово ей, видимо, изменили... Сомневаться в правдивости Сидонии Хотек нет оснований.)
2 (Souvenirs de la baronne de Montet. (Воспоминания баронессы Монте), 1785 - 1866. Paris, 1904, стр. 265 - 266.)
Эти дружеские отношения "высочайших", "высоких" и просто знатных особ с Е. М. Хитрово и ее юными дочерьми возникли, конечно, не по признаку знатности и богатства последних.
II
Вряд ли их можно объяснить и замужеством графини Долли. Мы знаем немало претендентов на руку ее старшей сестры, как известно, оставшейся незамужней. Одно время в числе их считали и прусского короля Фридриха-Вильгельма III.
О том, как проходила жизнь сердца юной "Сивиллы флорентийской", мы не знаем пока ничего,- быть может, потому, что ее судьба определилась очень рано - 3 июня 1821 года, не достигнув еще и семнадцати лет, Дарья Федоровна вышла замуж за только что назначенного австрийского посланника при короле Обеих Сицилий графа Шарля-Луи Фикельмона, выдающегося кавалерийского генерала и опытного дипломата. Позже, в преклонных годах, он стал плодовитым и интересным политическим писателем. Постепенно мы ближе присмотримся к облику этого, несомненно, незаурядного человека.
О происхождении Фикельмонов можно сказать то же самое, что и о Тизенгаузенах: не богатый, но очень старинный бельгийско-лотарингский род. Их предок, крестоносец, еще в 1138 году, уезжая в Палестину, подарил участок земли одному монастырю.
Дед Шарля-Луи и его отец граф Христиан-Максимилиан, оставаясь французскими подданными, служили, по семейной традиции, в Австрии - в XVIII веке это бывало нередко.1 Шарль-Луи первоначально учился в колледже в Нанси. В 1792 году его отец эмигрировал и взял сына с собой. В Австрии юноша, почти мальчик (ему было 15 лет), поступил в драгунский полк Лятура и с тех пор до конца жизни состоял на военной службе. Шарль-Луи (по-немецки Карл-Людвиг) Фикельмон стал со временем выдающимся кавалерийским начальником. Командовал в Испании полком в армии генерала Костаньоса (Costagnos), присоединившегося к англичанам. Много лет спустя герцог Веллингтон говорил, что он не знал лучшего кавалерийского генерала, чем Фикельмон.
1 (Не надо забывать, что понятие нации в современном смысле этого слова сложилось на Западе лишь во время Великой Французской Буржуазной Революции.)
После того, как Австрия в 1813 году присоединилась к коалиции против Наполеона, граф вернулся из Испании. В 1815 году он командовал конницей корпуса австрийского генерала Фримона и дошел с ним до Лиона.1 Позднее Фикельмон, оставаясь военным, перешел на дипломатическую службу. Состоял военным атташе в Швеции,2 а в 1819 году был назначен австрийским посланником во Флоренцию.
1 (Сведения о военной карьере Фикельмона заимствованы мною из составленного академиком Барантом (бывшим послом в России) краткого биографического очерка в книге: "Pensees et reflexions morales et politiques du comte de Ficquelmont ministre d'Etat en Autriche". (Мысли и раздумья, нравственные и политические, графа Фикельмона, австрийского государственного министра). Paris, 1859.)
2 (Согласно Баранту - посланником, но я считаю более надежными сведения Н. Каухчишвили, работавшей в семейном архиве Фикельмонов в Чехословакии.)
Здесь Фикельмон и познакомился с шестнадцатилетней графиней Долли Тизенгаузен. Разница лет между ними была огромная. Посланник, родившийся 23 марта 1777 года, был на 27 лет старше Долли и на шесть лет старше ее матери.
Мы не знаем, когда именно состоялось их знакомство - в 1819 или, скорее, в 1820 году (предыдущий в семье Хитрово был траурным). Не знаем и того, как развивался этот не совсем обычный роман. Несомненно одно - не позднее 2 января 1821 года (скорее всего накануне - в день Нового года) во Флоренции Шарль-Луи Фикельмон сделал предложение Долли Тизенгаузен, которой было 16 лет и 2 месяца. Предложение сразу же было принято.
Об этом мы узнаем из письма графа к бабушке невесты, княгине Екатерине Ильиничне Голенищевой-Кутузовой-Смоленской от 2 января 1821 года, которое хранится в Пушкинском Доме. (1) Приведу его почти полностью:
"Княгиня.
Нет на свете для меня ничего более счастливого и более лестного, чем событие, которое накладывает на меня, Княгиня, обязанность вам написать; я исполняю ее с величайшей поспешностью. Ваша дочь и ваша внучка одним своим совместно сказанным словом только что закрепили мое счастие, и мое сердце едва может выдержать испытанное мною волнение. Я удивлен, найдя у них обеих такое соединение достоинств, столько очарования, добродетелей, естественности и простоты. Неодолимая сила увлекла меня к новому существованию. Теперь его единственной целью будет счастие той, чью судьбу доверила мне ее мать. Все дни моей жизни будут ей посвящены и, поскольку воля сердца могущественна, я надеюсь на ее и на мое счастие.
1 (ИРЛИ, ф. 358, оп. I, № 146.)
Как военный, Madame la Marechale,1 я горжусь больше, чем могу это выразить, тем, что мне вручена рука внучки маршала Кутузова, и я имею честь принадлежать к вашей семье (...)".
1 (Это обращение к супруге фельдмаршала непереводимо. "Госпожа маршальша" по-русски сказать нельзя.)
Е. М. Хитрово давно знала Александра I. В юности она была фрейлиной его матери. Когда Долли стала невестой, Елизавета Михайловна сейчас же (10 января) сочла нужным известить царя о предстоящей свадьбе. Он ответил любезным письмом из Лайбаха:
"... Примите мои искренние поздравления и пожелания брачному союзу, который ваша младшая дочь вскоре заключит с генералом Фикельмоном. Он мне известен с самой хорошей стороны. Вы имеете таким образом полное основание надеяться на то, что этот брак будет счастливым (...)".1
1 (Дневник Фикельмон, стр. 19.)
Пушкинисты не раз задавались вопросом о том, была ли счастлива в замужестве графиня Фикельмон. Решали его по-разному. Н. В. Измайлов считает, что "это был, вероятно, брак по рассудку, а не по любви с ее стороны и, быть может, расстроенные денежные обстоятельства играли в нем не последнюю роль...". Однако исследователь делает оговорку: "Ум и чувство графа Фикельмона сумели сделать брак, на сколько возможно, прочным и даже счастливым".1
1 (Н. В. И з м аилов. Пушкин и Е. М. Хитрово. В кн.: Письма к Хитрово, стр. 155.)
Л. Гроссман, наоборот, говорит о графине Фикельмон, как о женщине "видимо, несчастной".1 То же отношение к замужеству Дарьи Федоровны чувствуется и у некоторых других литературоведов. Почти девочка, выданная матерью за пожилого мужчину, вероятно, из-за денежных расчетов. Несмотря на несходство положений, вспоминается рассказ Татьяны:
...Неосторожно, Быть может, поступила я: Меня с слезами заклинаний Молила мать; для бедной Тани Все были жребии равны... Я вышла замуж.
1 (Л. П. Гроссман. Устная новелла Пушкина. В кн.: "Этюды о Пушкине". М.-Л., 1923, стр. 81.)
Читатель, знакомый с историей создания "Евгения Онегина", быть может, подумает - а в самом деле не рассказ ли это графини Фикельмон о своем замужестве? Ведь восьмая глава "Онегина" была написана тогда, когда поэт уже был знаком с женой австрийского посла...
Предположение заманчивое, но, несомненно, неверное. Пушкин описал встречу своей героини с ее будущим мужем в предыдущей главе. Помните эту строфу:
- Взгляни налево поскорей.- "Налево? где? что там такое?" - Ну, что бы ни было, гляди ... В той кучке, видишь? впереди, Там, где еще в мундирах двое ... Вот отошел... вот боком стал... - "Кто? толстый этот генерал?"
Судьба Татьяны предрешена, но седьмая глава закончена в ноябре 1828 года, когда графиня Долли еще не прибыла в Петербург. Пушкин был уже тогда хорошо знаком с ее матерью, но совершенно невероятно, чтобы Елизавета Михайловна рассказала поэту о том, как ради денег ей пришлось выдать дочь замуж за нелюбимого человека. Против этого говорит все, что мы знаем о матери, Долли, особе в высшей степени романтической, очень, ценившей и культивировавшей всякое чувство. Нет, вообще не верится, чтобы она могла выдать замуж любимую дочь по расчету!
История этой свадьбы неизвестна, но, на мой взгляд, шестнадцатилетняя девушка легко могла увлечься блестящим боевым генералбм, которому было тогда всего сорок три года, человеком во всех отношениях привлекательным, умным, остроумным и, вероятно, горячо ее полюбившим.
Ранние браки были тогда в обычае не только у русских крестьян (вспомним, как будущую няню Татьяны "... с пеньем в церковь повели" в 13 лет!), но и в аристократических семьях России и Западной Европы. Рано начинали взрослую жизнь знатные девушки того времени. Учились обычно лет до пятнадцати, а там вскоре и замужество и материнство. Большая разница в летах между мужем и женой тоже не была редкостью,
Необычный по нынешним временам брак Долли Фикельмон вполне мог быть заключен по взаимной любви.
Я высказал это предположение в 1965 году, зная лишь поздние письма графини к сестре, ранее не изученные пушкинистами. То и дело она с несомненной любовью и нежностью говорит в них о своем старом уже муже. О молодости Дарья Федоровна вспоминает не часто, но всегда радостно - особенно о семи годах, проведенных в Неаполе.
"Помнишь ли ты Радта, который доставлял нам столько удовольствия в Неаполе, в первые годы (...); мы часто говорим с ним и с Менцем об этом прекрасном времени нашей молодости" (6. XI. 1847).1
1 (Сони, стр. 133.)
"... Наш бедный Менц (...) умер, не приходя в сознание. Это был верный друг, который напомнил мне мои прекрасные неаполитанские годы" (11.XII. 1847).1
1 (Там же, стр. 137.)
"Сохранив все письма Фикельмона с тех пор, как мы поженились, я делаю из них извлечения, переписываю все места, замечательные по стилю, по мыслям, по сюжету (...).
Я ничего до конца не забыла, но эта живая картина нашего прошлого, твоей и моей радости с разными эпизодами - ты бы тоже не смогла читать о них без умиления и трепета" (15.XII.1852).1
1 (Там же, стр. 389.)
Кажется, именно там, в Неаполе, когда генерал Фикельмон еще не начал стареть, графиня Долли была счастливее, чем когда-либо. Во всяком случае, любовное отношение к тогдашним письмам мужа, которые трогают и волнуют даже тридцать лет спустя, неоднократные упоминания о счастливых неаполитанских годах - все это позволяет думать, что Дарья Федоровна вышла замуж никак не по расчету.
Накопившиеся за последние годы материалы и, главным образом, книга Н. Каухчишвили, прочитавшей всю сохранившуюся переписку супругов, еще определеннее говорят в пользу брака по взаимной любви.
В письмах к княгине Кутузовой за 1821 - 1823 годы1 Фикельмон говорит об юной невесте и жене с трогательной нежностью. Некоторые его эпитеты, быть может, покажутся сейчас выспренними и книжными, но нельзя забывать, что пишет человек, воспитавшийся еще в XVIII веке.
1 (В архиве ИРЛИ хранятся четыре письма графа к Е. И. Кутузовой. Он встретился с ней в Италии, проезжая в 1822 году через Флоренцию, где Екатерина Ильинична провела несколько месяцев. В 1824 году она скончалась.)
"Я очень счастлив, что снова вижу Долли,- обращается Фикельмон к бабушке невесты,- она прекрасна, как никогда; это ангел красоты и доброты, и каждодневно я благодарю бога, позволившего, чтобы моя судьба была соединена с судьбой девушки столь замечательной во всех отношениях; это существо с совершенным характером и умом" (Неаполь, 16 мая 1821 г.). 10 декабря следующего года граф пишет Кутузовой из Вероны: "Я уезжаю обратно в Неаполь через несколько дней и очень рад, что снова соединюсь с Вашей Долли, лучшим и прелестнейшим существом на свете; разлучаться с ней, это самое большое огорчение, которое я могу испытать, а вновь с ней увидеться - самое большое счастье".
Так говорит муж. Прислушаемся теперь к дошедшим до нас словам жены.
"До свиданья, дорогой, любимый папочка!"- пишет ему Долли из Сорренто в июле 1824 года. Н. Каухчишвили считает, что, судя по этому обращению (по-итальянски "рараriello"), у нее еще оставались тогда некоторые детские черты.1 Мне думается скорее, что это лишь проявление взрослого, но очень юного, очень нежного чувства к немолодому уже мужу (Фикельмону 47 лет).
1 (Дневник Фикельмон, стр. 22.)
"Какое счастие снова быть с тем, кого любишь всей душой, после месяцев одиночества, возбуждения и беспокойства" (дневниковая запись 28.IV.1829, сделанная в Вене).1
1 (Там же, стр. 24.)
"Вчера, 3 августа, Фикельмон нас покинул. Его отъезд- это всегда траурный и скорбный день для меня. В течение всей моей жизни я чувствую пустоту, когда Фикельмона здесь нет. Я вдвойне избалована его заботами обо мне, прелестью его близости, такой нежной, доброй и такой умной" (3.VIII. 1832, Петербург).1
1 (Там же, стр. 24. Запись в тетради, хранящемся в архиве Фикельмонов (г. Дечин) в общем футляре с двумя другими. Эти документы не входят в состав основного дневника.)
Ограничимся этими тремя цитатами. В дневниках и письмах графини подобных высказываний много. Своего мужа она, несомненно, любила на протяжении всех тридцати шести лет супружеской жизни (1821 - 1857).
На замужестве Дарьи Федоровны я остановился подробнее не случайно. Для истории ее отношений с Пушкиным, как мы увидим, далеко не безразлично, была ли она счастлива в семейной жизни.
Итак, счастливая посланница, по возрасту почти что девочка (ей нет еще и семнадцати лет), начинает свою взрослую жизнь в Неаполе.1 Предоставим слово Н. Каухчишвили, изучившей архивные материалы этого времени. Их, по-видимому, сохранилось значительно меньше, чем от флорентийских лет, но все же не мало.
1 (Для брака католика Фикельмона с православной потребовалось разрешение папы. Оно хранится в семейном архиве в Дечине. Дневник Фикельмон, стр. 25.)
"Ответственность юной Дарьи Федоровны в связи с ее новым положением несомненно была большой, она должна была принимать послов, именитых граждан (нотаблей), принцев разных стран, ей приходилось соперничать со знаменитыми домами, многоопытными хозяйками дома, а также с двором. Соседство матери было для нее в этих условиях большой поддержкой, благодаря помощи, которую последняя могла оказывать, основываясь на личном опыте".1
1 (Там же, стр. 19.)
Елизавета Михайловна и сестра Долли Екатерина оставались с ней после замужества почти пять лет. У нас нет сведений о том, жили ли они в австрийской миссии, но, судя по всему, это представляется очень вероятным.
Е. М. Хитрово с дочерью вернулись в Россию лишь в начале 1826 года.1 К этому времени двадцатиоднолетняя Дарья Федоровна, можно думать, приобрела уже немалый житейский и светский опыт. Жаль, что мы ничего не знаем о том, какой она была в самые первые неаполитанские годы. Вероятно, исполняла тогда обязанности посланницы с увлечением. Весьма еще недавно вышла из того возраста, когда девочки-подростки потихоньку от взрослых и от прислуги нередко продолжали играть в куклы, а теперь она - супруга посланника великой державы, хозяйка дома, особа дипломатически неприкосновенная...
1 (Каухчишвили упоминает о том, что они прибыли в Россию летом (Дневник Фикельмон, стр. 34). Однако, 29 июля 1829 года граф Фикельмон отмечает, что в этот день она весело проводила время в гостиной вместе с матерью и сестрой впервые после трех с половиной летнего перерыва. (Курсив мой).
Вероятно, Н. Каухчишвили права, считая, что Е. М. Хитрово поспешила на родину в связи со смертью Александра I, так как опасалась за свое еще не окончательно урегулированное финансовое положение.)
Вряд ли только Долли вначале понимала сложную и трудную роль своего мужа, аккредитованного при Фердинанде I (1751 - 1825), который в 1816 году принял титул короля Обеих Сицилии.1 Этот бесхарактерный, но злобный и жестокий монарх был неистовым реакционером, не раз уже нарушавшим данное своим подданным слово. Он всецело находился под влиянием своей жены, Каролины Австрийской, у которой жестокость и католический фанатизм сочетались с волевым, властным характером.
1 (До этого он именновался королем Неаполитанским Фердинандом IV.)
Не раз уже Фердинанду приходилось бежать из Неаполя, но, используя политическую обстановку, он при помощи иностранных войск возвращал себе престол и затем зверски расправлялся с "изменниками". Неаполитанские порядки даже в то далекое время вызывали немалое возмущение в Европе.
В июле 1820 года в связи с успехами революции в Испании в Неаполе произошло восстание, организованное военными, к которым присоединилась либеральная буржуазия и организации карбонариев, связанные с масонами. Возглавлял восстание генерал Пепе, человек весьма умеренных взглядов, который добивался лишь восстановления конституции, но не свержения династии.
Перепуганный Фердинанд поспешил согласиться с требованиями восставших, назначил Пепе главнокомандующим, но сам уехал в Лайбах (Любляну), где собрались на конгресс монархи - руководители Священного Союза. По их решению австрийская армия генерала Фримона перешла 5 февраля 1821 года реку По и двинулась на Неаполь. Армия Пепе, не поддержанная народными массами, была разбита. Неаполь капитулировал 23 марта и на следующий день был занят австрийцами. Вслед за ними вернулся в свою столицу Фердинанд.
В начале апреля Пушкин написал послание В. Л. Давыдову (известен только черновик), в котором упомянул и о неаполитанских событиях:
Но те в Неаполе шалят, А та едва ли там воскреснет... Народы тишины хотят, И долго их ярем не треснет.
Поэт, по-видимому, не надеялся на успех неаполитанской вспышки, но, живя в Кишиневе, в это время, вероятно, еще не знал, что в Неаполе все кончено. Больше там никто не "шалит"...
Снова, как и раньше, вернувшийся король начал жестокие репрессии.
Во время похода армии Фримона и подавления неаполитанской революции вновь назначенный посланник генерал Фикельмон состоял при штабе этой армии и таким образом являлся военным участником событий. В Неаполе он также находился в постоянных сношениях с австрийским командованием.
Жестокости Фердинанда I, несомненно, осложняли положение Фикельмона, как дипломатического представителя Австрии, которому необходимо было установить добрые отношения с неаполитанским обществом. По всей вероятности, именно благодаря его донесениям Меттерниху, император Франц I, либерализмом отнюдь не отличавшийся, все же настоятельно советовал королю Обеих Сицилий умерить репрессии. Эти советы, несомненно, передавались через посланника, с представлениями которого Фердинанд I, обязанный Австрии троном, не мог не считаться.
Отношения между самолюбивым королем и тактичным, но настойчивым Шарлем-Луи Фикельмоном, вероятно, были чисто официальными. Нет никаких указаний на то, чтобы граф и его семья стали "своими людьми" во дворце неаполитанского деспота, как это было с семьей Хитрово при великом герцоге Тосканском.
Зато, по словам Н. Каухчишвили, "Несмотря на довольно натянутые отношения между австрийцами и итальянцами Долли и ее мать очень скоро приобрели расположение всего неаполитанского общества и вполне хорошо себя чувствовали среди оживленного разговора людей юга".1
1 (Дневник Фикельмон, стр. 19.)
Русских, постоянно живших в Неаполе, было гораздо меньше, чем во Флоренции. Дарья Федоровна и ее мать встречались чаще всего с посланником графом Густавом Оттовичем Штакельбергом и его многочисленной семьей. Путешествующие соотечественники наезжали только зимой и весной по окончании карнавала в Риме.1
1 (Там же, стр. 19.)
Из дипломатов, аккредитованных в Неаполе, человеком более или менее незаурядным был, как кажется, лишь англичанин Джон Фейн,1 генерал и музыкант, которого Долли знала раньше, как посланника во Флоренции. Он получил назначение на тот же пост в Неаполь в 1825 году.
1 (С 1841 года лорд Баргерш.)
Вообще же среди посетителей ее неаполитанского салона, о которых упоминает графиня Фикельмон, выдающихся людей, кажется, не было. Нельзя к ним причислить ни очень заурядного литератора Карло Меле, посвятившего ей несколько стихотворений, ни епископа Капечелатро, ни некоего князя Камальдоли. Остальные имена ее тамошних друзей уже совсем ничего не говорят исследователю. Искать их в справочнике безнадежно.
Однако графиня Долли чувствовала себя отлично и в обществе людей, ничем не выдающихся, но ей лично симпатичных. Она любила Неаполь не меньше, чем Флоренцию,- может быть, даже сильнее. Солнца, цветов и тепла там еще больше, чем в Тоскане, дождливая зима проходит быстро, и снова сияет лазоревое море, и белой дымкой цветущего миндаля окутываются сады древнего города.
Известно, что графиня живала в неаполитанские годы летом на морском побережье - в Сорренто, Кастелламаре, Исхии. Вероятно, верхом на ослике поднималась с родными или друзьями на Везувий в его спокойные дни - поднималась не очень высоко, не до кратера, но все же высоко. Побывала, надо думать, и в Помпее - тогда погибший город не был еще как следует откопан. Занимался раскопками кто хотел и как хотел. Шла "самодеятельная" охота за ценными вещами, которые сбывали богатым туристам, но все же было что посмотреть и в королевском музее. Вероятно, Фикельмоны всей семьей хоть раз ездили и на остров Капри - не знаем только, ходили ли туда пироскафы или надо было плыть на парусной лодке.
"Я начинаю здесь это письмо перед тем как покинуть с тоской в душе и стесненным сердцем Неаполь, мой возлюбленный рай...",1- писала Дарья Федоровна мужу много лет спустя (15/27 апреля 1839 года), снова побывав в дорогом ей городе.
1 (Дневник Фикельмон, стр. 43.)
Живя в "раю", посланница, должно быть, не замечала или старалась не замечать ни узких, грязных улиц, где ютилась неаполитанская беднота, ни множества нищих, ни десятилетних проституток, ни детей, почти круглый год ходивших совершенно нагими. Впрочем, на такие улицы жена австрийского посланника, наверное, не заглядывала - там слишком скверно пахло...
Была в счастливой неаполитанской жизни графини Фикельмон и обратная сторона. До появления книги Каухчишвили мы о ней ничего не знали, но теперь кое-что знаем.
В первый же год после свадьбы Долли очень огорчала необходимость надолго расставаться с мужем. Посланнику нередко приходилось уезжать из Неаполя - "по делам службы", как прежде говорили у нас в России. В январе 1822 года Фикельмона вызвали в Вену, и он вернулся домой только в апреле. Осенью того же года он снова уехал - на конгресс в Верону и принужден был там задержаться до конца февраля 1823 года. Совсем бы истосковалась Долли, не будь с нею матери и сестры.
Была и другая, очень интимная причина, мешавшая полноте семейного счастья. Совсем молодая, здоровая тогда женщина обладала уже в юности сильно развитым материнским инстинктом, а детей у супругов Фикельмон не было в течение ряда лет. Тоскуя по ним, Дарья Федоровна даже взяла на воспитание итальянскую девочку из простой семьи и одно время посвящала немало времени заботам об этой маленькой Магдалине.1
III
Как мы знаем, мысль о необходимости Елизавете Миайловне съездить в Россию возникла давно - еще в 1817 оду. Осуществить ее тогда не удалось из-за отсутствия редств на это далекое и дорогое путешествие.
1 (Дневник Фикельмон, стр. 33.)
В 1822 году Е. М. Хитрово собиралась отправиться с дочерьми в Верону, где граф Фикельмон должен был присутствовать на конгрессе. Однако, как он сообщает княгине Кутузовой 10 декабря этого года, ряд причин, в том числе нездоровье графини Екатерины, "... побудили ее (Елизавету Михайловну) остаться в Неаполе и пожертвовать бывшим у нее намерением встретиться с царем Александром и представить ему дочерей, а Долли не захотела расстаться с магерью (...)".
О себе посланник пишет, что он, к сожалению, не сможет располагать временем "... чтобы привезти Долли в Петербург и засвидетельствовать вам там мое уважение".1
1 (ИРЛИ, ф. 358, oп. I, № 146.)
Наступил 1823 год - очень памятный год в жизни неаполитанской посланницы и ее матери. Задуманное шесть лет тому назад путешествие наконец состоялось.1 Долли было в это время 18 лет, ее сестре - 19, а самой, успевшей дважды овдоветь Елизавете Михайловне шел сороковой год.2 Читатель, я надеюсь, вскоре увидит, что эта справка о возрасте трех путешественниц не является неуместной.
1 (В книге "Если заговорят портреты" я ошибочно указал, что поездка в Россию имела место в 1822 году.)
2 (Напомним, что Е. М. Хитрово родилась 19 сентября 1773 года.)
Граф Фикельмон оставался на своем посту в Неаполе.
Мы не знаем точной даты прибытия Е. М. Хитрово и ее дочерей на пироскафе в Ревель, где во время короткой остановки Долли встретилась с любимой бабушкой Тизенгаузен, тетками и кузинами. Оттуда путешественницы отправились в Петербург. Там их ожидала многочисленная родня во главе с бабушкой, княгиней Екатериной Ильиничной Голенищевой-Кутузовой-Смоленской, и теткой Дашей - Дарьей Михайловной Опочининой, сестрой Е. М. Хитрово. Их Долли, во всяком случае, повидала уже во Флоренции, где они гостили в 1821 году.
С остальными петербургскими родственниками Дарья Федоровна либо встретилась впервые, либо успела их основательно позабыть за восемь итальянских лет. На первых порах она, видимо, была совсем не в восторге от этих родственных встреч в столице. 15(27) июня она пишет мужу энергично и бесцеремонно, что у них, обеих сестер, весь день проходит в "... показах то одному, то другому, точно мы любопытные звери. Иногда меня возмущает эта манера демонстрировать меня, как будто я занимательное четвероногое".1
1 (Дневник Фикельмон, стр. 30.)
Быть может, и Татьяне Лариной не очень были по сердцу визиты к неведомым родным:
И вот по родственным обедам Развозят Таню каждый день Представить бабушкам и дедам Ее рассеянную лень.
Но Татьяна была тогда попроще, чем ее неаполитанская современница, и, вероятно, меньше с ней было хлопот, чем с графиней Долли.
О пребывании Елизаветы Михайловны и ее дочерей в Петербурге летом 1823 года известно немало. Мне, однако, предстоит вкратце рассказать теперь об одной многозначительной истории, разыгравшейся тогда в Царском Селе и других окрестностях невской столицы, истории, о которой исследователи до сих пор не знали решительно ничего.
Начнем с цитат.
"Как вы любезны (...), что подумали о прелестных рисунках. Конечно, они будут бережно сохранены. Но каким выражением мне следует воспользоваться, чтобы сообщить вам о том удовольствии, которое доставила мне наша первая встреча, и то, как вы ко мне отнеслись? Я думаю, что вы сами прочли это на мне лучше, чем я смог бы вам выразить.
Я постарался как мог лучше исполнить ваши поручения, и у вас уже должно быть доказательство этого.
Ожидаю с нетерпением счастия снова вас увидеть.
Царское Село, 16 июня"
"Будьте спокойны - вас не будут бранить, прежде всего потому, что ваше письмо прелестно, как прелестны вы сами (...)".
"Я был очень обрадован, встретив вас только что у моей свояченицы и, что меня особенно очаровало, это свобода и естественность, которые никогда вас не покидают и еще более усиливают присущую вам обеим прелесть.
Что касается упрека в недоверии, который вы мне делаете, я вам скажу, что там, где есть уверенность, основанная на фактах, там не может больше существовать недоверия.
Желаю вам тихой и спокойной ночи после ваших дневных треволнений".
"Вечерние маневры прошлого дня продолжались так долго (...), что я смог вернуться в Царское Село только в час ночи и уже не решился приехать к вам".
"Весь день я провел, будучи прикован к письменному столу, и не вставал из-за него до глубокой ночи.
Вы поймете, насколько я был огорчен. Но это огорчение не было единственным. Вы, действительно, подвергли меня Танталовым мукам - знать, что вы так близко от меня и не иметь возможности прийти вас повидать; ибо таково мое положение"!
"Что касается новых брошюр, то у меня их почти нет. За неимением лучшего, посылаю вам несколько довольно интересных путешествий. На все остальное вы получите устные ответы при нашей встрече. В ожидании ее я должен вам сказать, что очень тронут привязанностью, о которой вы мне говорили и искренне вам отвечаю тем же".
"Мне совершенно невозможно выйти, не вызвав, благодаря здешним наблюдателям, род скандала, несмотря на мое крайнее желание вас повидать.
Постарайтесь остаться здесь еще до вторника, когда я смогу беспрепятственно прийти вас повидать".
"Вы уже меньше нас любите?!! Неужели я заслужил подобную фразу? За то только, что из чистой и искренней привязанности, исполнил по отношению к вам долг деликатности! За то, что подверг себя очень чувствительному лишению только ради того, чтобы вас не компрометировать или подвергать нескромным пересудам, которые всегда неприятны для женщин. И вот мне награда!"
"Тысячу раз благодарю за подарок. Он драгоценен для меня и будет тщательно сохранен.
Весь ваш (...)".
"Будьте уверены в том, что в любое время и несмотря на любое расстояние, которое нас разделит, вы всегда снова найдете меня прежним по отношению к вам. Я бесконечно жалею о том, что необходимость заставляет нас расстаться на такое долгое и неопределенное время".
Для читателя, который еще не догадался о том, кто же автор этих писем к графине Долли, автор, несомненно, возымевший к ней весьма нежные чувства, пора назвать его имя. Это - Александр I, император и самодержец Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая...
Скажу прежде всего, что эти письма, несколько выдержек из которых я только что привел, - никак не мое открытие. Об открытии здесь вообще говорить не приходится, так как в книге поступлений Рукописного отдела Пушкинского дома за 1924 - 1929 годы эти письма записаны 31 декабря 1929 года под № 1059, с примечанием: "Дар неизвестного". Установить сейчас, кто же было это лицо, пожелавшее остаться неизвестным, и какие у него были на то основания, не представляется возможным. Нельзя выяснить и предысторию царских писем.1
1 (Всего в ИРЛИ (Пушкинском Доме) имеется 16 писем царя Александра I, снабженных шифрами ИРЛИ (ПД), P. I, on. 24, №№ 198, 199, 200. Десять из них обращены непосредственно к Долли Фикельмон (пять с ее адресом; не вызывающая сомнений атрибуция пяти остальных, произведена по содержанию); три адресованы Е. М. Хитрово; I записка - гp E. Ф. Тизенгаузен (pour Catherine); одно письмо обращено к "Трио" (Е. М. Хитрово и ее дочерям). Атрибуция письма, снабженного шифром ИРЛИ, P. I, oп. 24, № 199/3, остается неясной - вряд ли оно обращено к Е. М. Хитрово; возможно, что адресаткой является Д. Ф. Фикельмон. Шифры некоторых писем Александра I, вероятно, будут изменены ввиду обнаружившейся неправильности атрибуций.)
Палеографического описания писем я не даю - это дело научного издания, которое, вероятно, когда-либо будет предпринято.
Подлинность писем не подлежит сомнению. Сохранность хорошая. Отрезан лишь конец одного письма, вероятно, содержавший подпись царя.
Бумага всюду однотипная - небольшие тонкие листки бледно-голубого цвета. Чернила не выцвели. Сохранилась также часть конвертов с адресами.
Обращения в письмах, за немногими исключениями, отсутствуют. Царь подписывался (и то не часто) одной лишь буквой "А" или же ограничивался характерной фигурой сложного начертания.
Изящный почерк Александра I, несколько похожий на почерк Пушкина, читается без труда. Французский текст не содержит каких-либо иноязычных вставок. Орфография писем, в общем, соответствует нормам, принятым в 20-х годах. Старинных форм XVIII века Александр I не употребляет. Пропуск аксанов, описки, а порой и несомненные грамматические ошибки у него нередки, но все же, в общем, царь пишет по-французски и с внешней стороны значительно правильнее многих своих русских современников. В умело построенных, выразительных фразах Александра встречаются, однако, по временам несомненно не французские обороты, главным образом руссизмы.
Приехав с дочерьми в Петербург, Елизавета Михайловна Хитрово, не теряя времени, обратилась с частным письмом к царю. Текста его мы не знаем, но короткий ответ Александра приведу полностью:
"Ваше письмо, Madame,1 я получил вчера вечером. Приехав сегодня в город, я спешу сказать вам в ответ, что мне будет чрезвычайно приятно быть вам полезным и познакомиться с М-те Фикельмон и М-11е Тизенгаузен.- Итак, сообразуясь с вашими намерениями, я буду иметь удовольствие явиться к вам в среду в шесть часов пополудни.
1 (Обычных французских обращений я не перевожу.)
Пока примите, Madame, мою благодарность за ваше любезное письмо, а также мою почтительную признательность.
Александр,
Каменный остров.
9 июня 1823 г.
Госпоже Хитрово ("A Madame de Hitroff")". Об этом визите царя, с точки зрения придворного этикета надо сказать весьма необычном, Дарья Федоровна подробно рассказала в письме к мужу. Впервые графиня увидела Александра I в среду 11(23) июня, а 15(27) она описывает эту встречу в выражениях весьма восторженных:1
1 (Дневник Фикельмон, стр. 30.)
"...Я от нее совсем без ума ("J'en suis tout a fait folle") и никогда не видала ничего более любезного и лучшего" (...). "Он начал с того, что расцеловал маму и поблагодарил ее за то, что она ему сразу же написала. Он пробыл у нас два часа, неизменно разговорчивый, добрый и ласковый и как будто он всю жизнь провел с нами. Екатерина и я, мы сейчас же попросили у него разрешения обращаться с ним, как с частным лицом, что привело его в восхищение. Он повторил нам, по крайней мере, раз двадцать, чтобы мы не усваивали здешних привычек и оставались такими, как есть - без всякой искусственности. Он говорил о тебе и о твоей репутации военного. Царь сказал, что прусский король обрисовал ему нас и отозвался о нас с таким дружеским чувством, что ему (Александру. - Я. Р.) трудно было дождаться встречи с нами. Словом, я нахожу его прелестным".
Вероятно, опытный дипломат Фикельмон, читая в Неаполе эти излияния юной жены, умно и добродушно посмеивался. Он-то знал отлично, какой простой и добрый человек император Всероссийский, которого сам Наполеон называл "лукавым византийцем"...
Внимание, которое оказывала русская царская семья жене, теще и свояченице австрийского посланника при дворе одного из многочисленных итальянских государей, вероятно, было приятно графу Шарлю-Луи и как человеку и как дипломату, естественно рассчитывавшему на дальнейшую служебную карьеру.
А внимание, действительно, оказывалось исключительное.
О двухчасовом визите царя к "генерал-майорше Хитрово", каковой бывшая фрейлина Елизавета Михайловна числилась со времени своего второго замужества, мы уже говорили подробно. 27 июня (9 июля) Дарья Федоровна пишет мужу:1 "Вчера мы получили приглашение от императрицы Елизаветы, чтоб быть ей представленными в Царском Селе, что не делается ни для кого. Это устроил император. Сегодня приехал великий князь Михаил Павлович; он пробыл три битых часа (trois grandes heures) и все время болтал. Итак, завтра мы едем в Царское Село к императрице Елизавете, а оттуда в Павловск, чтобы быть представленными императрице-матери и великой княгине Александре Федоровне".2
1 (Там же, стр. 31.)
2 (В подлиннике (Grande Duchesse Nicolas" - по-видимому, супруга еликого князя Николая Павловича, впоследствии императора Никоая I. В России это чисто французкое обозначение не было принято.)
Позднее - 7 (19) сентября - посланница писала мужу из Петербурга, что жена великого князя Николая "обращается" с ней и с Екатериной, "как с сестрами".1
1 (Дневник Фикельмон, стр. 31.)
По словам Н. Каухчишвили, граф Фикельмон в своем Неаполе "...читал эти, полные энтузиазма, описания с известными опасениями - он полагал, что для чрезвычайно роскошного русского двора не будет приятен простой и безыскусственный характер его жены".1
1 (Там же, стр. 31.)
При дворе и в высшем обществе России начала двадцатых годов, которую Фикельмон, вероятно, считал прежде всего душевно холодной и церемонной страной, обе молодых графини имели, однако, необычайно большой успех, - может быть, именно потому, что в то время они по своему облику были больше итальянками, чем русскими или немками. О впечатлении, которое они произвели в обеих столицах, мы еще будем говорить.
Нравилась многим и совсем еще не старая, жизнерадостная и эксцентричная Елизавета Михайловна, тоже мало похожая на тогдашних русских и, в особености, петербургских дам.
Зато с дочерьми у нее всегда было много общего. Быстро и близко познакомившийся со всеми тремя дамами,1 царь Александр прозвал их "любезным Трио" ("l'aimable Trio").
1 (Е. М. Хитрово царь, правда, знал уже давно, но не виделся с ней не менее восьми лет.)
Не раз он упоминает о "трио" в своих письмах, а два послания относятся к нему непосредственно. 21 июня (3 июля) - через десять дней после начала знакомства - Александр пишет из Царского Села: "...Я получил прелестное письмо Трио вчера, когда ложился спать. Рано утром я уехал в Гатчину, а затем в Красносельский лагерь. Оттуда я вернулся недавно. Сегодняшний дождь помешал учению, которое должно было состояться. (...) Благодаря этому я надеюсь вас увидеть только в воскресенье, если вы по-прежнему собираетесь здесь переночевать, чтобы утром поехать в Павловск.
Два цветочка, полученных с благодарностью, старательно сохраняются, как драгоценное воспоминание. Очень прошу Трио оставить для меня место в своей памяти.
А.
Царское Село, в понедельник вечером 21 июня".
Второе письмо, хотя касается "трио" в целом, адресовано Дарье Федоровне:
"Я покорно подчиняюсь упрекам и даже наказаниям, которые Трио соблаговолит на меня наложить. Прошу разрешения прийти, чтобы им подвергнуться сегодня, между одиннадцатью и двенадцатью часами, так как это единственное время, которым я могу располагать.
Только покорно подвергнувшись наказаниям, к которым меня приговорят, я возвышу свой скромный голос, чтобы доказать свою невиновность и, надеюсь, она окажется настолько очевидной, что справедливость моих любезных судей полностью меня оправдает (...).
А.
Я вошел бы во двор, если вы позволите.
Каменный остров.
Понедельник вечером. Графине Фикельмон".
Странное чувство было у пишущего эти строки, когда он впервые вчитывался в бледно-голубые листки царских писем. Совсем недавно в Ленинградском русском музее долго стоял перед моделью памятника Александру I в Таганроге работы знаменитого И. П. Мартоса. Театрального вида самодержец, воин и законодатель с неким свитком в руке - таким постарался изобразить его скульптор.
И вот передо мной его письма, в которых ничего театрального нет. Хорошо знаю, что и речам и писаниям Александра I весьма часто верить нельзя. Но и у самых неискренних людей бывают приступы искренности. Кто знает, быть может, автор голубых писем говорил Долли Фикельмон, ее матери и Екатерине Тизенгаузен то, что он на самом деле думал. Маловероятно, но утверждать, что это не так, я не берусь...
Во всяком случае, в письмах внутренняя близость чувствуется со всеми тремя женщинами - даже с Екатериной Тизенгаузен, которой адресована всего одна короткая, вероятно, прощальная записка:
"Для Екатерины.
Я очень признателен за любезный подарок и строки, которые вы мне прислали. Поверьте, что мне многого стоило отказаться от (возможности) вас повидать, в особенности, когда мы были так близко. Однако важные соображения вменили мне это в обязанность.
Прошу вас помнить обо мне,
Сердечный привет матушке".
И все же мне кажется, что ласковые слова, которые царь, адресовал "любезному Трио", большое внимание и очень серьезные услуги (если только можно их назвать "услугами"), оказанные им Елизавете Михайловне - о них речь впереди,- даже эта малозначительная, но любезная записка к Тизенгаузен, - все это, в конечном счете, лишь маскировка большого увлечения Александра I Долли Фикельмон.
Я уже привел ряд выдержек из писем царя, которые вряд ли можно считать, говоря по-современному, флиртом - светской игрой в любовь, которой в действительности нет.
Объясняя Долли, почему он не может навестить ее в Красном Селе, куда графиня приехала во время маневров, не подумав о том, что станут о ней говорить, царь пишет: "По окончании маневров мне нужно уехать, потому что в Царском Селе меня ждут другие занятия. К тому же я вас слишком люблю, чтобы таким образом привлекать к вам все взгляды, что неминуемо случилось бы, если бы я явился здесь, где я и шагу не могу ступить без сопровождения адъютанта, ординарцев и т. д.".
"К тому же я вас слишком люблю..." ("D'ailleurs je votis aime trop"). Очень интимные слова, но в этом контексте по-французски их все же нельзя понимать, как объяснение в любви. "Je vous aime trop" - скорее, "я к вам слишком привязан...". Во всяком случае, слова, которые зря не говорят. Они обязывают.
И говорит их Александр I по серьезному поводу. Еще в дном письме, во второй или третий раз (последовательость писем определить трудно) он предупреждает Долли, то, во избежание сплетен, ей следует быть сдержаннее: Вы выбрали очень неудачный день, чтобы приехать сюда, так как в среду я буду отсутствовать - отправляюсь в Красносельский лагерь (...).1 Но если я могу вам дать совет, будет много лучше, если вы совершите поездку в Царское Село после того, как я побываю в городе. Лагерь тогда уже будет закончен, и я смогу пожить здесь. В ожидании этого не забывайте меня и скажите себе, что я искренне отвечаю вам той же доброй привязанностью, о которой вы мне пишете. Передайте привет Екатерине".
1 (Речь снова идет о больших Красносельских маневрах.)
Судя по тому, что царь вовсе не упоминает об Елизавете Михайловне, она куда-то уехала, может быть, к матери, княгине Кутузовой, которая жила на даче где-то в окрестностях Петербурга. Долли, видимо, осталась одна и решила быть совсем самостоятельной - съездить в Царское в надежде повидаться - не знаем, с царицей и царем или только с царем... По-французски такое молодое, немного озорное и неожиданное приключение лучше всего передается словом "escapade", вошедшим и в русский язык. Как и многие чисто французские понятия, точному переводу оно не поддается. Во всяком случае, ничего предосудительного для чести той, которая совершает такое экстравагантное деяние - "эскападу" - здесь нет.
Но дневника графини Долли за эти петербургские недели у нас нет, а перечитывая серию писем царя, можно предположить, что эта ее выходка не была первой.
Я уже упоминал о том, что жизнь молодой женщины сложилась так, что никакого священного трепета перед особами, которых принято именовать "высокими" и "высочайшими", она не испытывала. С императором всероссийским, конечно, была вежлива - так же вежлива, как с любым, влюбленным в нее офицером или атташе посольства, но, вероятно, не больше... Царь ведь сам при первой же встрече настаивал на том, чтобы с ним обращались как с частным лицом. Долли так с ним и обращалась. Приходилось его величеству не раз извиняться перед восемнадцатилетней посланницей (19 лет ей исполнилось 14 октября этого года).
Ряд этих извинений, большей частью шуточных, я уже процитировал. Однако среди писем царя есть одно,1 которое в виде исключения я привожу полностью. По-видимому, между Александром и графиней Долли произошла более или менее серьезная размолвка - все из-за той же неосторожной поездки посланницы в Царское Село в совсем для этого неподходящее время маневров. В ответ на очень деликатное по форме, но настоятельное по существу напоминание царя о необходимости быть осторожнее, графиня, кажется, всерьез обиделась на своего коронованного поклонника.
1 (ИРЛИ, P. I, oп. 24, № 200/6.)
На этот раз он не оправдывается, только просит понять - и снова довольно настойчиво, что частным лицом он может все же оставаться только до известного предела,
В письме нет ни обращения, ни адреса, оно написано частью в третьем лице, но, судя по концовке ("Передайте привет маменьке"), все же обращено к графине Долли. Вот его текст:
"Только в данный момент я освободится, чтобы написать вам эти строки.
Итак, я сказал Екатерине, что я ничуть не отношусь к ней с недоверием и что со своей стороны я вполне искренне питаю к ней ту же дружбу, что и она ко мне.
Что касается Долли, я бы ее спросил, чем я навлек на себя бурю, которая бушует против меня в ее письме? Если бы она лучше меня знала, она бы поняла, что я придаю очень мало цены осуществлению какой бы то ни было власти; что я всегда смотрел на нее, как на бремя, которое, однако, долг заставляет меня нести. Так как я никогда не думал расширять эту власть за пределы тех границ, которые она должна иметь, то тем более (я не хотел) стеснять мысль. Когда эта мысль касается меня и притом принадлежит существу столь любезному, как она. Ничуть не думая ее отталкивать, я принимаю с благодарностью все проявления ее интереса. Однако моему характеру и, в особенности, моему возрасту свойственно быть сдержанным и не переступать границ, которые предписывает мое положение. Вот почему Долли ошибается, считая меня несчастным. Я ничуть не несчастен, так как у меня нет никакого желания выйти из того положения, в которое меня поставила власть всемогущего. Когда человек умеет обуздывать свои желания, он кончает тем, что всегда счастлив. Это мой случай. Я счастлив; и, кроме того, я не хотел бы позволить себе ни одного шага вне воли всевышнего.
Если вы спокойно и последовательно подумаете над тем, что я вам здесь говорю, это объяснит вам многое, что должно вам казаться во мне странным.
До встречи завтра вечером.
Передайте привет маменьке".
Что сказать об этом, во всяком случае, многозначительном письме? Оно, несомненно, адресовано одной из дочерей Елизаветы Михайловны. Я предполагаю, что адресатка - Долли, но полной уверенности у меня в этом нет. Эта своеобразная исповедь царя, по-существу, во всяком случае, обращена к ней, а не к Екатерине Тизенгаузен.1
1 (Думаю, что адресатка во всяком случае не Елизавета Михайловна, так как ее мать, старую княгиню Кутузову, царь вряд ли бы назвал просто "маменькой" ("maman").)
Когда читаешь уверения Александра I в том, что в глубине души он тяготится властью, возложенной на него, как он считает, свыше, этому можно поверить, - не одной Долли Фикельмон он так говорил.
Еще 21 февраля 1796 года девятнадцатилетний великий князь Александр Павлович писал своему недавно уволенному воспитателю Лагарпу: "Дорогой друг! Как часто я вспоминаю о вас и о всем, что вы мне говорили. Но это не могло изменить принятого мною намерения отказаться впоследствии от носимого мною звания".
Весной того же года он писал своему приятелю В. П. Кочубею: "Одним словом, мой любезный друг, я сознаю, что рожден не для того сана, который ношу теперь, и еще меньше для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим способом".1
1 (Георгий Чулков. Императоры. М.-Л., 1928, стр. 85.)
Это настроения юноши, но они возобновлялись по временам у царя на протяжении всей его жизни. Не раз он говорил близким ему людям о своем намерении отречься от престола. В 1819 году сказал брату Николаю и его жене Александре Федоровне: "Я решил сложить с себя мои обязанности (...) и удалиться от мира".1
1 (Там же.)
Итак, когда Александр пишет о своем взгляде на царскую власть, как на тяжелое бремя, его искренности поверить можно. Зато, когда он лицемерно пытается уверить графиню в своем уважении к свободе мысли (какой бы то ни было), как не вспомнить лишний раз пушкинские стихи:
Недаром лик сей двуязычен. Таков и был сей властелин: К противочувствиям привычен, В лице и в жизни арлекин.
Мы не прочли и, вероятно, никогда не прочтем писем Долли к царю. Только одну ее фразу Александр сохранил в своем ответе: "Вы уже меньше нас любите?".
Собственно говоря, и этих нескольких слов достаточно, чтобы почувствовать "климат" посланий графини Фикельмон к царю.
О первой встрече с ним она с трогательной откровенностью писала мужу: "Я от нее совсем без ума". То же впечатление остается и от всей серии писем Александра, когда он говорит о настроениях и поступках Долли. Не узнаем мы в ней той до предела благовоспитанной барышни, которой немного лет тому назад любовался во Флоренции французский путешественник Луи Симон. Помните, как он говорил своему приятелю, синьору Фаббрини: "Видите (...) эту молодую особу (...), она вернулась к матери после танца и, как кажется, боязливо колеблется, принять ли ей руку подошедшего кавалера".
А теперь восемнадцатилетняя графиня, посланница, замужняя особа, повторим еще раз - несомненно любящая мужа, никого не боится, ни с кем не считается, держит себя так, что Александру I явно не по себе... Она совсем без ума от этой встречи.
А может быть, дело обстоит иначе - попав в совсем ей, по существу, неведомую Россию, страну, где ею восхищаются и балуют напропалую, очень еще юная, очень самоуверенная женщина считает, что здесь иногда уместно то, что и неуместно и невозможно во дворцах Флоренции, Вены или Неаполя...
Надо сказать, что по-своему графиня Фикельмон отчасти и права - с высокими особами за границей она не раз обращалась запросто, но, наверное, все же никто из них не просил у нее разрешения войти во двор, как попросил русский царь.
Во всяком случае, Александру I приходилось порой усовещевать Долли, напоминать о своем нежелании ее "...компрометировать или подвергать нескромным пересудам, которые всегда неприятны для женщин".
Ни дать ни взять Евгений Онегин, читающий нравоучение Татьяне:
Учитесь властвовать собою; Не всякий вас, как я, поймет; К беде неопытность ведет.
Но в 1823 году еще ни одна глава "Онегина" не вышла в свет, а четвертая не была и написана...
Следует, однако, нам в этом "штатском" деле вспомнить простой и ясный вопрос, который, разбирая самые сложные военные операции, полковник Фош, будущий маршал Франции, неизменно ставил своим слушателям в Высшей военной школе:
- De quoi s'agit-il? - В чем дело?
В чем дело? Что перед нами - ни к чему в конце концов не обязывающий светский флирт, игра в любовь - и только? Или, наоборот, мы идем по следам далеко зашедшего романа царя и графини Долли, скажем проще - их интимной связи, разыгравшейся в эти летние месяцы 1823 года?
Я лично не думаю ни того, ни другого. Есть такое французское выражение, с трудом передаваемое по-русски - "amitie amoureuse" - влюбленная дружба - понятие, равно далекое и от флирта и от связи. Оно родилось позднее, но, на мой взгляд, этот очень французский термин лучше всего передает характер тогдашних отношений Александра I и графини Фикельмон - большое взаимное увлечение.
Прибавим еще, что у юной женщины (приходится все время не забывать об ее юности) увлечение царем, на мой взгляд, сильнее и бездумнее, чем чувство Александра.
Однако и в его не очень долгой, но сложной жизни встреча с графиней Фикельмон вряд ли была только занимательным приключением. Я убежден в том, что вряд ли кому из ровесниц Долли Александр I писал такие серьезные и искренние письма, как ей.
И еще одно впечатление - этот роман 1823 года, как кажется, закончился, хотя и не разрывом, но охлаждением - не берусь судить, взаимным или нет. Во всяком случае, дневниковые записи графини Фикельмон, посвященные Александру после его смерти, так же восторженны, как и впечатление от первой встречи с ним, а последнее письмо царя из Серпухова от 31 августа (Александр I куда-то надолго уезжал) грустно, но довольно сухо:
"Нужно иметь большую охоту исполнить ваши желания, чтобы набросать эти строки при тех занятиях, которые одолели меня в дороге. Я хотел бы, чтобы вы однажды стали воочию их свидетельницей, и вы приобрели бы уверенность в том, что у меня остается не много времени для частных писем. Благодарю вас за все любезное, что вы мне говорите. Поверьте, что я бесконечно жалею о том, что не имел возможности повидать вас перед отъездом.
Кланяйтесь маме и Екатерине и от времени до времени вспоминайте обо мне.
Серпухов
31 августа 1823 г.".
Показала ли Долли, вернувшись в Неаполь, царские письма мужу? Думается, что не показала... Это не письма любовника, но, сколько оговорок ни делай, все же это послания влюбленного в нее человека.
О матери и сестре Дарьи Федоровны говорится почти в каждом письме Александра. Елизавета Михайловна, член "любезного Трио", была, по крайней мере отчасти, соучастницей сближения своих дочерей с царем. Думается, что от матери и сестры у Долли в этом отношении тайн почти, или совсем не было, но больше никто и никогда голубых листков не увидал... Своей дочери, княгине Елизавете-Александре Кляри-и-Альдринген, к которой перешла большая часть семейного архива,1 писем Александра I Дарья Федоровна во всяком случае не оставила.
1 (Дневник Фикельмон, стр. 3.)
Я подробно рассказал о посланиях царя к графине Долли и "любезному Трио", но из писем, официально адресованных "Madame de Hitroff", привел только одно. Может быть, и остальные письма этой серии когда-либо используют ученые историки - материал все же совершенно новый, - но, на мой взгляд, они по сравнению с перепиской с Фикельмон относительно малоинтересны. Помимо светских любезностей речь в них идет главным образом о просьбе Елизаветы Михайловны оказать ей материальную помощь.
Содержания письма Е. М. Хитрово мы не знаем, но из ответа царя видно, что он поспешил сделать соответствующие распоряжения:
"Очень сожалею о том, что вчера у меня не было времени ответить на ваше письмо и заверить вас, что я очень желаю облегчить ваше положение, поскольку это совместимо с возможностью и соображениями благопристойности, нарушать которые я не могу. Я тотчас же займусь данным вопросом и надеюсь в скором времени известить вас на этот счет".
Перед самым отъездом надолго (куда именно, мы не знаем) царь, жалуясь на массу дел, которые заставляют его проводить бессонные ночи, передает Елизавете Михайловне, Долли и Екатерине прощальный привет и сожаление о том, что не смог еще раз их повидать.
Житейски говоря, самыми существенными являются, конечно, заключительные строки этого письма: "Ваши дела устроены единственным способом, который мне представился подходящим. Я поручил графу Нессельроде вас об этом известить".
О том, что именно Александр I нашел уместным сделать для Елизаветы Михайловны, мы узнаем из других источников.
21 августа (2 сентября) графиня Фикельмон пишет мужу из Петербурга: "Надеюсь, что тебя очень обрадовал способ, которым царь устроил дела! Все в один голос говорят, что 6000 десятин земли в Бессарабии - это отличная вещь! Те, которые работали с царем, - передают, что он никогда не был таким взволнованным, как в эти три дня, когда он старался устроить дела мамы. У нового министра финансов совершенно не было денег, чтобы их дать, тем не менее император хотел сделать нечто прочное. Мама была очень возбуждена и обеспокоена". 7 (19) сентября графиня прибавляет: "До сих пор невозможно было получить денег от казны".1
1 (Дневник Фикельмон, стр. 32.)
По-видимому, речь здесь идет о пенсии, пожалованной Елизавете Михайловне помимо бессарабских земель. Наполеоновский генерал и дипломат Шарль де Флао (de Flahaut), приехавший в это время в Петербург и, по-видимому, хорошо информированный о тамошних делах, писал: "Я всего на несколько дней опоздал встретиться с госпожой Хитрово. Она так же, как и Долли, пользовалась поразительным успехом. Она сделала все, что хотела. Двор принял их единственным в своем роде и необычным способом. В Санкт-Петербурге об этом только и говорят. Госпожа Хитрово воспользовалась этим, чтобы получить пенсию в семь тысяч рублей, возмещение за прошлое время (аrrёrаges) и довольно большие земли в Бессарабии, которые она сможет выгодно продать".1
1 (Там же.)
Насколько точны сведения Де Флао о размерах пенсии, пожалованной Е. М. Хитрово, мы не знаем. Других данных на этот счет мне встретить не пришлось.
Несомненно одно, - по существу, Александр I одарил Елизавету Михайловну за счет государственных средств бессарабскими землями (надо думать - черноземом, а не песками) и пожаловал ей немалую пенсию не в память ее великого отца,1 а ради дочерей; скажем точнее - ради графини Долли...
1 (...пожаловал ей немалую пенсию не в память ее великого отца... - Характерно, что в шестнадцати письмах царя к дочери и внучке фельдмаршала М. И. Кутузова его имя ни разу не упоминается. Хорошо известно, что Александр I очень не любил народного героя Кутузова. Скрепя сердце публично обнял его в Вильне по окончании кампании 1812 года, пожаловал ему высшую воинскую награду - орден св. Георгия I-й степени, но в то же время писал графу Салтыкову: "Слава богу, у нас все хорошо, но несколько трудно выжить отсюда фельдмаршала, что весьма необходимо".2)
2 (Георгий Чулков. Императоры. М.-Л., 1928, стр. 147.)
Историческое приличие, по всей вероятности, было все же соблюдено - официально вдова генерал-майора Е. М. Хитрово получила земли и пенсию, как дочь своего отца. Соответствующие документы, возможно, когда-либо найдутся.
IV
Прервем теперь повествование о путешествии Е. М. Хитрово с дочерьми в Россию - нам предстоит еще позднее к нему вернуться, - забудем также на время о "влюбленной дружбе" графини Долли Фикельмон с царем Александром I и отправимся в ее любимый Неаполь.
Дарье Федоровне предстояло там провести еще около шести лет.1
1 (Дату возвращения Е. М. Хитрово и ее дочерей в Неаполь, вероятно, можно установить по материалам архива в Дечине, но в известных мне источниках она не указана.)
Итак, неаполитанская жизнь супругов Фикельмон продолжалась. Детей у них по-прежнему не было. Дарья Федоровна воспитывала маленькую итальянку Магдалину, но с течением времени, кажется, стала посвящать ей меньше внимания. По словам Н. Каухчишвили, "Воспитание девочки не заставило ее пренебрегать светскими обязанностями; наоборот, ее неаполитанский салон все более оживлялся, и в последние годы помимо официальных гостей мы встречаем в нем многочисленных друзей (...), которые, в свою очередь, становились добрыми друзьями ее русских знакомых".1
1 (Дневник Фикельмон, стр. 33.)
Подробности светской жизни графини Фикельмон в Неаполе для нас неинтересны, тем более, что, как я уже упоминал, особенно выдающихся людей в столице королевства Обеих Сицилий в это время, по-видимому, не было.
В 1825 году графиня Дарья Федоровна Фикельмон после четырех лет замужества стала матерью. В конце этого года родилась ее единственная дочь, будущая княгиня Кляри-и-Альдринген. Ее назвали Елизаветой-Александрой в честь записанных крестной матерью и крестным отцом императрицы Елизаветы Алексеевны и императора Александра Павловича.1 Но знатной католичке полагается иметь больше имен. К двум уже названным прибавили еще Марию и Терезу.
1 (Сони, стр. 111 (предисловие публикатора).)
В петербургском дневнике и письмах Дарьи Федоровны об ее дочери упоминается множество раз: но никаких документов, связанных с рождением Елизаветы-Александры, мы не знаем.
Читатель может спросить - а что же сталось с итальянской девочкой Магдалиной, которая, по позднейшим словам графини,1 "была первым ребенком, которого я любила, потому что Елизалек 2 еще не родилась".
1 (Дневник Фикельмон, стр. 39 - 40.)
2 (Домашнее имя Елизаветы-Александры.)
В 1825 году она была "вверена попечению" одной из сестер графа Шарля-Луи, Марии-Франсуазе-Каролине, которая впоследствии (в 1841 году) основала монастырь "Святого сердца" в Нанси1.
1 (...основала монастырь "Святого сердца" в Нанси... - Дарья Федоровна снова встретилась с Магдалиной в Генуе в сентябре 1838 года. Ее воспитанница за эти годы совершенно офранцузилась; она была замужем за ювелиром Дельфас. В декабре того же года молодая женщина умерла от чахотки. Ее смерть очень огорчила графиню, которая упрекала себя в том, что в свое время вырвала девочку из привычной для нее простой среды. Упрекала, как мне думается, не без основания...)
Счастливые итальянские годы графини Долли близились к концу. По-видимому, еще в 1823 году, когда Елизавета Михайловна с дочерьми гостила в России, у графа Фикельмона возникла надежда или, во всяком случае, желание занять пост австрийского посла в Петербурге. Действительно, из его письма к жене мы узнаем, что в конце этого года он запросил своего петербургского коллегу Людвига Лебцельтерна, намеревается ли тот покинуть свой пост и когда именно.1 Лебцельтерн, однако, оставил русскую столицу лишь в 1826 году, возможно, в связи с тем, что он и декабрист князь Сергей Петрович Трубецкой были женаты на родных сестрах, урожденных Лаваль. Поверенным в делах оставался граф Зичи.
1 (Дневник Фикельмон, стр. 34.)
По словам Н. Каухчишвили, изучившей документы Венского государственного архива, "В конце 1828 года, когда международное положение потребовало присутствия в Петербурге лица, способного сгладить вероятные недоразумения, которые могли возникнуть вследствие положения, создавшегося на Востоке, выбор Меттерниха пал на Фикельмона".1
1 (Там же.)
Мне представляется очень вероятным, что русское происхождение жены графа и ее не столь давние успехи при дворе и в среде русской царской семьи, о которых в свое время столько говорили в Петербурге, сыграли немалую роль в решении канцлера. "В январе 1829 года он (Фикельмон) был послан в Петербург с чрезвычайным поручением выяснить возможность сближения России и Австрии, сделать попытку проломить брешь в новом тройственном согласии, которое сблизило Россию с Англией и Францией".
В официальной петербургской газете, издававшейся на французском языке, было помещено следующее сообщение о приеме царем графа Фикельмона, прибывшего в столицу 29 января ст. ст.:
"Придворные новости от 30 января. Государь император приняли сегодня утром в частной аудиенции графа Фикельмона, действительного статского советника и генерал-майоpa на службе его королевского и апостолического величества, присланного его монархом с чрезвычайной миссией к его имп. величеству".1
1 ("Journal de Saint Petersbourg", 1829, № 14, 31 января (12 февраля).)
Предоставим опять слово итальянской исследовательнице:1 "Фикельмону удалось блестяще исполнить поручение к удовлетворению обеих сторон: почва для возможного сближения обеих великих держав была подготовлена. В марте Долли узнала, что Татищев2 представил в Вене от имени Николая I его пожелание видеть послом в Петербурге графа Фикельмона (23 марта - н. стиля, 1829 года), пожелание, которое было окончательно подтверждено в июне . того же года".3
1 (Нина Михайловна Каухчишвили - грузинка по национальности, родилась за границей.)
2 (Д. П. Татищев (1769 - 1845), русский посол в Вене.)
3 (Дневник Фикельмон, стр. 34 - 35.)
Фикельмоны провели несколько месяцев в Вене и затем, проехав через Варшаву, прибыли в Петербург. Временно они поселились на Черной Речке в доме Лавалей. Официальное сообщение о приеме царем нового посла гласило: "Придворные новости от 17 июля. Сегодня утром посол Его Величества австрийского императора граф Фикельмон имел честь получить в Елагинском дворце первую аудиенцию у Его Вел. Императора и Ее Вел. Императрицы, вслед за чем имели честь быть представленными графиня Фикельмон и леди Хейтсбери, супруга английского посла, а также его дочь".1
1 (Journal de Saint-Petersbourg", 1829, № 86, 18 (30) июля.)
По рассказу Дарьи Федоровны в покой императрицы ее ввели "обер-церемониймейстер граф Литта1 и граф Станислав Потоцкий". "Увидев меня, она воскликнула: "Долли посольша!", затем она прибавила: "эту посольшу мне надо расцеловать!"- нежно меня обняв, императрица сказала мне много добрых и ласковых слов. Должна признаться, что я была тронута до слез".2
1 (Граф Юлий Помпеевич Литта (1763 - 1839) был в действительности обер-камергером, впоследствии начальник Пушкина по его придворной службе.)
2 (Дневник Фикельмон, стр. 88.)
Не зная прежних (1823 года) писем Долли к мужу, было бы непонятно, откуда вдруг такая нежность у императрицы Александры Федоровны к жене нового австрийского посла. В действительности, встретились старые знакомые. Напомним, что когда-то жена великого князя Николая Павловича обращалась с дочерьми Елизаветы Михайловны, "как с сестрами".
Долли записывает: "Императрица мне напомнила так много; я ее видела, будучи молодой (так!),1 когда розовые очки, через которые видишь все, готовы разбиться, но еще полностью наслаждаешься всеми удовольствиями, которые видишь через них. Она напомнила мне нашего обожаемого бессмертного императора Александра и все доброе, что он для нас сделал".
1 (Д. Ф. Фикельмон в это время нет еще и двадцати пяти лет.)
"После обеда, в день моей аудиенции, я встретила императрицу верхом в сопровождении императора; она была в самом деле прелестна в таком виде. Император подъехал ко мне и сказал, что ему очень приятно видеть меня здесь надолго; он прибавил "разрешите вам показать свою внешность" и, сняв шляпу,1 он дал мне возможность увидеть целиком свою замечательно красивую голову. Он пополнел, и в его облике есть нечто, напоминающее императора Александра" (22.VII.1829).2
1 (Треуголку или другой военный головной убор. В пределах своей страны русские императоры всегда носили военную (изредка морскую) форму.)
2 (В дальнейшем я, как общее правило, обозначаю цитаты из дневника Фикельмон только датами записей без указания страниц источников (книга Н. Каухчишвили, работы А. В. Флоровского - для записей 1832 - 1837 гг.).)
Итак, граф Шарль-Луи Фикельмон начинает свою деятельность австрийского посла в Петербурге в очень благоприятных условиях. Он назначен сюда по желанию Николая Г, на которого, очевидно, произвел благоприятное впечатление еще во время своего приезда в столицу с чрезвычайной миссией.
Близость Дарьи Федоровны с императрицей Александрой Федоровной, ее давнишнее знакомство с Николаем Павловичем (иначе царь, очевидно, не счел бы возможным говорить жене иностранного посла о своей внешности) - все это, несомненно, способствовало близости между Зимним дворцом и австрийским посольством, далеко не бесполезной и для служебной работы дипломата.
Изучение этой работы в мою задачу не входит, и я в дальнейшем коснусь ее лишь вкратце. Наше внимание будет сосредоточено на личности графини Фикельмон, ее русских литературных связях и - прежде всего - на роли Дарьи Федоровны в жизни и творчестве Пушкина.
Предварительно я должен все же вкратце рассказать и о дальнейшей служебной карьере ее мужа, итальянский период которой нам уже достаточно известен. Коснусь отчасти и его литературной деятельности, которая когда-то имела немалую известность.
В следующих очерках я не раз буду возвращаться к обстоятельствам петербургской жизни супругов Фикельмон. Упомяну пока о том, что, вернувшись в 1826 году в Россию, Елизавета Михайловна Хитрово и после приезда Долли с мужем в Петербург некоторое время жила отдельно со старшей дочерью Екатериной на Моховой улице в доме Мижуева.1 Весной 1831 года она переехала в арендованный австрийским посольством обширный особняк кн. Салтыковых (современный адрес - Дворцовая набережная 4), но занимала там, как мы увидим, отдельную квартиру. В ней Е. М. Хитрово прожила восемь лет и здесь же скончалась (3 мая 1839 года).
1 (Современный адрес - Моховая, 41 (Пушкинский Петербург. Л., 1949. стр. 406).)
Ее дочь, графиня Екатерина Федоровна Тизенгаузен, стала личным другом императрицы Александры Федоровны. В мае 1833 года она в качестве камер-фрейлины переехала в Зимний Дворец.1
1 (Так наз. "фрейлинские комнаты" помещались в верхнем этаже дворца.)
Свой ответственный пост граф Фикельмон занимает в течение целых одиннадцати лет, получив в 1830 году чин фельдмаршала-лейтенанта австрийской армии.1 Изредка посол уезжает из столицы. Летом 1833 года он отправляется в Чехию, которая тогда называлась Богемией. Осенью 1837 года граф был в Крыму, но Дарья Федоровна, насколько нам известно, в этом путешествии его не сопровождала.
1 (В официальном русском сообщении о приеме Николаем I Фикельмона 30 января 1829 года, видимо, есть ошибка - граф значится в нем всего лишь генерал-майором, а год спустя он уже фельдмаршал-лейтенант (произгодство через чин в австрийской армии не практиковалось).)
В первые годы пребывания Фикельмона на посту посла в Петербурге князь Меттерних несомненно был доволен его деятельностью, хотя судить об этом приходится лишь по косвенным данным - документов мы не знаем.1
1 (Служебная переписка посла с канцлером хранится, как я уже упоминал, частью в Вене, частью в г. Дечине (Чехословакия). Я смог использовать лишь выдержки из нее, приведенные в книге Н. Каухчишвили, и давно известное донесение Фикельмона о дуэли и смерти Пушкина.)
В Вене были довольны до поры до времени. У Николая 1 благоволение к Фикельмону сохранялось в течение всего пребывания графа в Петербурге. Об этом свидетельствуют, между прочим, и высокие награды, полученные им в России. В ноябре 1833 года (запись Дарьи Федоровны 10.XI) ему был пожалован высший русский орден - Андрея Первозванного, который иностранным послам давали в очень редких случаях. При отъезде из России он получил еще более редкое отличие - бриллиантовые знаки к этому ордену.1
1 (Сони, стр. 2.)
Впоследствии автор одного из некрологов Фикельмона писал, что покойный "... благодаря своему долгому пребыванию в России, получил особое пристрастие к этой северной стране и питал большую привязанность к особе императора Николая, который относился к нему с особой благосклонностью".1
1 ("Press", 1857, № 81. Цит. в "Biographisches Lexikon des Kaiserturns Oesterreich", Bd, 13, IV, Wien 1858, стр. 223.)
Действительно, в сочинениях и письмах Фикельмона мы находим ряд отзывов о России, необычных для образованного иностранца того времени, особенно для австрийского сановника, каковым все же был граф Шарль-Луи (Карл-Фридрих), несмотря на свое французское происхождение. Достаточно привести, например, отзыв Фикельмона о цивилизаторской роли России в Азии, имеющийся в его посмертно изданной книге:1 "... ни в какой период истории Европы не было столь блистательного факта, как приобщение к цивилизации бесконечных пространств русской территории (...), призванных к тому волею Петра Великого".
1 (Pensees et reflexions morales et politiques du comte de Ficquelmont. (Мысли и раздумья, нравственные и политические, графа Фикельмона). Paris, 1859, стр. 267.)
О знаменитой книге французского путешественника маркиза Кюстина,1 наделавшей много шума в Европе и запрещенной в России, и об ее авторе он отзывался крайне резко: "Он пишет таким образом, что, будь я молодым русским, я бы его разыскал и дал ему единственный ответ, которого он заслуживает, и, надеюсь, что это с ним случится". "В его книге несомненно есть кой-какая правда; так я согласен с ним, когда он говорит, что любовь к людям занимает недостаточно большое место в истории России, но его всегда грязная и всегда враждебная мысль бесчестит то подлинно хорошее, что он мог встретить на своем пути (...)". "Не стоит она того, чтобы ею заниматься, она умрет как пасквиль (...). Автор - безвестное насекомое (...) время его раздавит своею поступью, и ничего не останется от его обломков. Это грязь, которая возвращается в грязь, из которой она вышла, его укус не причинит никакой боли (...)"2 и т. д.
1 (Marquis de Сustinе. La Russie en 1839. (Маркиз де Кюстин. Россия в 1839 году). Т. 1 - 4, 2-me 6d., Paris, 1843 (фр.).)
2 (Сони, стр. 50 - 51.)
Обычно очень корректный граф Фикельмон в отзыве о Кюстине и его книге не скупится на эпитеты. В его письме к тому же чувствуется автор комедий для домашнего театра, которые имели успех, но, насколько известно, напечатаны не были.
Сейчас, через сто с лишним лет, приходится признать, что Фикельмон ошибся. Злобный памфлет Кюстина на Россию Николая I выдержал испытание временем лучше, чем умные и сдержанные книги графа Шарля-Луи. Они почти забыты, хотя и не заслуживают этого.
Не можем мы согласиться и с благоговейным отношением Фикельмона к личности Николая I, в котором он видел своего рода воплощение непреклонной воли,- качество, которым этот царь, к несчастью для России, действительно обладал.
Но к политике императора Николая I в восточном вопросе, которую он в своих книгах, хотя и в корректной форме, но резко и обоснованно критикует, Фикельмон всегда относился отрицательно.1 Однако, когда Восточная война разразилась, он не менее резко возражал против попыток тогдашней английской и французской печати представить Россию как варварское Государство, грозящее гибелью западной культуре.
1 (Двухтомный труд Фикельмона: Lord Palmerston, I'Angleterre et le continent (Лорд Пальмерстон, Англия и континент). Paris, 1852, был запрещен в России (по-видимому, из-за критического отзыва о вел. кн. Константине Павловиче), хотя автор отзывается очень отрицательно о враждебной России политике Англии.)
Все это происходило многим позже петербургского периода деятельности Фикельмона, периода, который нас преимущественно интересует, но его взгляды на Россию и русских, по всему судя, сложились давно и, вероятно, послужили причиной крушения его дипломатической карьеры.
В 1839 году граф был вызван в Вену и временно замещал Меттерниха, что, конечно, не говорит о том, что посол впал в немилость. Затем Фикельмон вернулся в Петербург, но в июле 1840 года был окончательно отозван из русской столицы. Он покинул ее 20 июля этого года.
Судя по грустному обращению графа к Екатерине Федоровне Тизенгаузен, написанному перед самым отъездом, ему пришлось оставить свой пост неожиданно и, во всяком случае, не по своей воле:
Петербург 20 июля 1840.
Я пишу вам, дорогой друг, в тревожный и волнующий момент (...). Через час я уезжаю, и мое сердце полно вашей матерью, Долли и вами. Это трио,1 которое организовало мою жизнь и так долго составляло мое счастие, было разорвано, а остатки его разделены.
1 (Возможно, что "трио" издавна было ласковым прозвищем Елизавет Михайловны и двух ее дочерей, причем в 1823 году оно стало известным Александру I.)
Поэтому я с большой грустью в душе покидаю этот дом (...). Одна жизнь кончена, а я слишком немолод, чтобы начинать другую".
Подлинной причины отозвания Фикельмона мы не знаем.
Н. Каухчишвили считает, что недовольство Меттерниха могли вызвать два продолжительных отпуска (первый из них длился полгода), которые посол испросил в 1838 и 1839 годах. Действительно, Дарья Федоровна, привыкшая с одиннадцати лет к итальянскому солнцу и теплу,1 плохо переносила хмурый и холодный климат Петербурга. Головными болями она страдала и раньше, но, как сообщал граф Шарль-Луи в письме к Меттерниху от 4 января 1838 года (23 декабря 1837 г.), "Страдания М-те Фикельмон, которые ей причинил в течение двух лет ревматизм головы, были очень сильными; начиная с минувшего лета они стали настолько острыми и постоянными, что все, что я мог бы сказать по этому поводу, еще не соответствовало бы действительности. Она может лишь надеяться на то, что ей поможет перемена кл.имата и ванны".2
1 (Нельзя забывать о том, что за исключением нескольких месяцев, проведенных в Центральной Европе и в России, она прожила в Италии без перерыва 13 лет.)
2 (Дневник Фикельмон, стр. 38.)
Отпуск был разрешен, и в мае 1838 года супруги Фикельмон с дочерью и сопровождавшая их Елизавета Михайловна уехали за границу. В Дечине хранится дневник, который графиня вела во время этого путешествия. Из него известны пока только отрывки, приведенные в книге Н. Каухчишвили. Проведя два месяца в Баден-Бадене, путешественники через Швейцарию направились в Италию. Уже в Камподольчино (Итальянская Швейцария) Дарья Федоровна записывает 26 августа: "... сразу воздух стал мягким, бархатным, и между двух гор видишь ослепительный свет, сверкающую даль. Это моя любимая Италия, которую я снова вижу и узнаю после десяти лет разлуки и беспрерывных сожалений. Во время моей долгой и мучительной болезни во мне преобладало желание вернуться в Италию и тайный страх за то, что мне это не удастся".1
1 (Сони, стр. 38 - 39.)
К Долли понемногу возвращается радость жизни, хотя временами она еще очень страдает. Однако на нее надвигается тяжкое горе. В Генуе она прощается с Елизаветой Михайловной, которая торопится в Россию. Ни мать, ни дочь не думали, конечно, что это расставание навеки... В своей любимой Флоренции Дарья Федоровна разлучается и с мужем, у которого отпуск подходит к концу.
Весной 1839 года Елизавета Михайловна тяжело заболела. По-видимому, заболевание было внезапным, так как впоследствии в некрологе было сказано, что "... жестокая болезнь только что унесла ее в возрасте 54 лет, но еще полную жизни, здоровья и молодости духа".1 Зная, что конец неизбежен, и предвидя, как тяжело будет больная Дарья Федоровна переживать смерть любимой матери, граф Фикельмон снова обратился 21 апреля (9 мая) 1839 года к князю Меттерниху с просьбой об отпуске.
1 ("Journal de Saint-Pelersbourg", 1839, № 55, 9 (21) мая.)
Елизавета Михайловна, как мы знаем, скончалась 3 мая старого стиля. Долли получила известие о смерти матери, возвращаясь из Неаполя, где она провела с дочерью весенние месяцы.
24 мая Фикельмон обратился к одному из ее близких друзей - И. И. Козлову. Он писал поэту-слепцу: "...вчера, или сегодня, или завтра, или, наконец, на-днях жена должна получить известие, которое разобьет ее сердце (...). Напишите ей, сударь, - вы облегчите ее горе (...) ...слова тех, которые счастливы, никогда не произвели бы на нее такого действия, как ваши".1
1 (8 ИРЛИ, архив Я. К. Грота, ф, 88, оп. 2, № 37.)
Похоронив тещу, с которой Фикельмон был очень дружен, граф уехал за границу и встретился с женой во французском курорте Экс ле Бен (Aix les Bains).1
1 (Насколько я знаю, это был единственный случай, когда Д. Ф. Фикельмон побывала во Франции.)
Таким образом, длительная болезнь Дарьи Федоровны и смерть Е. М. Хитрово, действительно, на довольно продолжительное время нарушили дипломатическую работу Фикельмона, и князь Меттерних имел основание быть этим недовольным. Очень возможно также, что, как предполагает Н. Каухчишвили, канцлеру могла не понравиться в письме-прошении о вторичном отпуске ссылка на мнение Николая I, который спросил посла: "... разве вы не съездите к вашей жене и дочери? Они будут в вас нуждаться. Прошу вас не приносить мне этой очень большой жертвы".1
1 (Дневник Фикельмон, стр. 43 - 44.)
Я тем не менее не могу согласиться с мнением автора о том, что эти отпуска по семейным обстоятельствам и промах, допущенный послом со ссылкой на мнение русского царя, послужили причиной краха дипломатической карьеры Фикельмона.
Я уже упомянул о том, что временное исполнение графом обязанностей канцлера в 1839 году никак нельзя считать признаком немилости. Кроме того, трудно понять, почему наказание последовало так поздно - прошел целый год, прежде чем Фикельмона отозвали с поста посла в Петербурге и фактически отстранили от всякой сколько-нибудь государственной работы. По приезде из России он был назначен на почетный пост, приблизительно соответствующий министру без портфеля (Staatsund Konferenzminister), и до революции 1848 года выполнял разные, главным образом, дипломатические поручения. По существу, Фикельмон, однако, оказался не у дел, в полуотставке - письма Дарьи Федоровны и самого графа Шарля-Луи не оставляют на этот счет никакого сомнения. По словам графини (письмо к сестре от 5 сентября 1851 года),1 Меттерних в течение десяти лет перед революцией старался, как только мог, свести его значение на нет (l`annuler). В другом письме (29 декабря 1852 года)2 Дарья Федоровна утверждает, что ее мужа "удерживали здесь под тем предлогом, что пользуются его услугами, тогда как в действительности его держали вдали от всех дел".
1 (Сони, стр. 331.)
2 (Там же, стр. 393.)

Одна из комнат Теплицкого замка (до 1945 года).
Упорная неприязнь Меттерниха к Фикельмону, как я думаю, объясняется не мелкими промахами графа Шарля-Луи в прошлом, а его последовательным руссофильством и общеполитическими взглядами, которые, видимо, казались либеральными в то чрезвычайно реакционное время. 25 июня 1842 года он пишет, например, Е. Ф. Тизенгаузен: "То, что делают в России, не может привести ни к какому хорошему результату, и я об этом очень жалею, так как будущее целиком зависит от этой проблемы дворян и крестьян. Земли в России так много, что ее достаточно для всех, и право государства ею владеть является иллюзорным, так как оно не в состоянии ее обрабатывать. Раздать ее крестьянам, при условии установления соответствующего налога, было бы наиболее простым способом управления, и земледелие сделало бы больше успехов, так как у крестьянина никогда не будет интереса к приобретению нужных земледельцу знаний, раз он уверен в том, что никогда ничем владеть не будет".1
1 (Сони, стр. 30.)
Конечно, необходимым условием для осуществления предлагаемой Фикельмоном реформы явилась бы отмена крепостного права, но он об этом умалчивает и в письме и в своих сочинениях.
В печатных трудах графа Шарля-Луи встречаются и более оригинальные мысли. Он пишет, например: "Демократия, в том виде, как ее сейчас добиваются, не может быть осуществлена иначе, как через коммунизм, только он может сделать демократию основой государства. Демократия, если она подлинная, должна ввести коммунизм и цивилизацию (...). Заменить другую, которая до настоящего времени является идеалом без прецедентов".1
1 (Lord Palmerston. England und der Kontinent, von K. L. Grafen Ficquelmont. (Лорд Пальмерстон. Англия и континент, соч. графа К. Л. Фикельмона). Verlag A. Manz, 1852, стр. 356 - 367. Я воспользовался чешским переводом этой любопытной цитаты, сделанным Сильвией Островской и сообщенным мне в письме. Немецкого издания я не видел, а разыскать ее во французском мне не удалось за недостатком времени.)
Сам Фикельмон по своим взглядам, конечно, чрезвычайно далек и от "подлинной демократии" и от коммунизма, но его политическая мысль работает все же весьма самостоятельно, и это не могло нравиться его бывшему начальнику, реакционнейшему Меттерниху.
В привычном климате Италии и Средней Европы здоровье Дарьи Федоровны, по-видимому, более или менее восстановилось. В известных нам письмах сороковых и пятидесятых годов она на него жалуется редко. 28 декабря 1850 года княгиня Кляри пишет тетке: "... мама всех удивляет, она прекрасна, молода и свежа, находят, что она помолодела, и ее салон приятен, как всегда".1
1 (Сони, стр. 299.)
По заказу Дарьи Федоровны в Италии было изготовлено в 1841 году прекрасное надгробие в виде стелы из белого мрамора с барельефом Елизаветы Михайловны и фигурами ее скорбящих дочерей. Оно было привезено в Россию и установлено на могиле покойной в церкви св. Духа.1
1 (В настоящее время надгробие находится в Лазаревской усыпальнице (Александро-Невская лавра в Ленинграде).)
Сама графиня Долли, насколько мы знаем, на родину больше не возвращалась. Сестра время от времени навещала ее в Австрии. Супруги жили главным образом в Вене, а теплое время года проводили в Теплицком замке у дочери, которая в 1841 году, как и мать, вышла замуж по любви в шестнадцать лет. Ее муж, князь Эдмунд Кляри-и-Альдринген (3.II.1813 - 1894), очень богатый австрийский помещик, был старше жены на двенадцать лет.
13 октября 1842 года у Елизаветы-Александры родился первый ребенок - девочка Эдмея-Каролина.1 Дарья Федоровна таким образом стала бабушкой ровно в 38 лет. В 47 у нее уже четверо внучат.
1 (...первый ребенок - девочка Эдмея-Каролина. - Княжна Эдмея-Каролина вышла замуж за графа Карло-Феличе-Николис Робилант-Череальо (Carlo-Felice-Nicolis Robilant Cereaglio), ставшего впоследствии видным политическим деятелем объединенной Италии (1826 - 1888). Возможно, что у потомков его сына, генерала графа Марио-Николис Робиланта (Mario-Nicolis conti di Robilant), командовавшего корпусом в первую мировую войну, хранятся некоторые бумаги Дарьи Федоровны, оставленные княгиней Кляри (умерла в Венеции в 1878 году) единственной своей дочери Эдмее. У них, в частности, могут находиться несомненно существовавшие альбомы графини Фикельмон, которых в Дечинском архиве нет.
Графы Робилант проживают в настоящее время в Риме.)
Большая политическая карьера ее мужа возобновилась было во время революции 1848 года, но вскоре оборвалась окончательно. 18 марта Фикельмон, считавшийся человеком умеренных взглядов, вошел в состав первого конституционного кабинета в качестве министра двора и иностранных дел, а после отставки графа Коловрата короткое время замещал председателя совета министров. Министерский пост граф Шарль-Луи занимал всего" сорок пять дней. Революционная демонстрация студентов, направленная не только против министра, но и против его русской жены, заставила Фикельмона выйти в отставку.
В нескольких письмах к сестре Дарья Федоровна рассказывает, как подготовлялось и произошло это тягостное для нее событие.1
1 (Сони, стр. 154 - 155, 158 - 159, 161 - 165.)
"Сейчас думают, что Фикельмон принадлежит к старой школе князя.1 Если бы люди знали все, что он говорил, все, что он писал в течение двух лет, и сколько раз князь пренебрегал его мудрыми словами и отвергал их! (...). Фикельмона обвиняют в том, что он слишком друг России, и я все время боюсь, что способствую укреплению этого мнения" (15.IV).
1 (Т.е. Меттерниха.)
"Посылаю тебе листовку, из которой ты увидишь, каким преследованиям я здесь подвергаюсь. Люди не боятся оскорблять благородный характер Фикельмона и предполагать, что мы оба продались России. Эта глупая история о двенадцати миллионах разглашена здесь болтуном Оболенским, и благожелательная публика, которая постоянно обвиняет Фикельмона в том, что он друг русских, подхватила эту болтовню. Вообще, я не в состоянии сказать, как я страдаю от этой ненависти ко всему русскому. Если бы я не была убеждена, что приношу пользу Фикельмону (...), я бы уехала, чтобы не предполагали, что мое влияние может внушить ему пристрастие к России. Это стесняет меня в повседневной жизни, я едва решаюсь видеться со здешними русскими, настолько у меня велика боязнь ему навредить" (22.IV).
В длинном письме от 4 мая Дарья Федоровна подробно рассказывает о том, как вечером и ночью 2.V.1848 года делегации революционно настроенных студентов являлись к Фикельмону на дом, требуя его отставки, а под окнами бушевала толпа молодежи, распевая оскорбительную для графа песню. На следующий день Фикельмон вручил императору прошение об отставке. 8.V графиня сообщает, что причиной, побудившей ее мужа принять это решение, были не крики студентов, а полная инертность властей и национальной гвардии, оставивших председателя правительства один на один с революционерами с девяти часов вечера до двух часов ночи. Войска он заранее запретил вызывать во избежание кровопролития.
Можно думать, что перепуганная администрация и руководители буржуазной национальной гвардии были рады отделаться от неприемлемого для революционных кругов руссофила и поклонника реакционного царя Николая I.
Во время событий 1848 года Дарье Федоровне, прежде чем вернуться к мужу в Вену, пришлось перенести немало волнений и неприятностей - в особенности в Венеции, где ее дважды арестовывала гражданская гвардия. В конце концов она с трудом выбралась из города вместе с дочерью, зятем и внучатами на английском военном корабле.
Граф Фикельмон к политической деятельности больше не возвращался. Энергичный и бодрый старик всецело отдается своим литературным работам, которыми занимался и прежде. О содержании его книг, неизменно благожелательных к России, я уже говорил. Написаны они несколько старомодным (и для того времени) языком, но читаются легко.
В начале 1855 года Фикельмоны пополам с князем Кляри покупают дворец в Венеции (palazzo Clary и поныне принадлежит потомкам теплицкого магната). Поселяются там вместе с зятем, дочерью и внучатами.

Граф Шарль Луи Фикельмон в старости. Неизвестный художник. Масло. Областная галерея в г. Теплице.
Граф Шарль-Луи скончался в Венеции 6 апреля 1857 года восьмидесяти лет от роду. Дарья Федоровна, рано начавшая болеть, ненадолго пережила мужа. Она умерла з Вене 19 апреля 1863 года, несколькими месяцами раньше Н.Н.Пушкиной-Ланской.
V
Научная биография графини Фикельмон - дело будущего. Я набросал только схему ее не очень долгой (59 лет) жизни, причем остановился главным образом на годах ее молодости и том времени, когда ее знал Пушкин. В начале их знакомства графине 25 лет, в пору дуэльной драмы - 32. Сейчас этот интервал - взрослая молодость, в эпоху Пушкина - возраст уже немолодой. Нам нелегко себе это представить, но так было...
Как мы видели, жизнь графини Долли внешними событиями не богата. Только революция 1848 года ненадолго прервала ее размеренный, на вид спокойный ход.
Схема жизни графа Фикельмона - сына эмигранта, воина, дипломата, государственного деятеля, писателя гораздо сложнее, но сколько-нибудь подробное изложение ее в мою задачу не входит.
Шарль-Луи Фикельмон для нас интересен главным образом как муж графини Долли и близкий знакомый Пушкина. |
П. И. Бартенев, знавший многих современников Фикельмена, пишет: "В нем не было ни немецкой тяжеловесности, ни себе-наумелого французского легкомыслия. Подобно графу С. Р. Воронцову, считал он, что лукавство вовсе не надежное орудие дипломата, который больше выиграет в делах своих, коль скоро успеет снискать уважение в обществе качествами ума и сердца своего. Фикельмона полюбили в Петербурге, и мы уверены, что Пушкин, обожавший его супругу, находил большое удовольствие в беседе с ним, человеком многосторонним и даровитым".1
1 ("Русский архив", 1911, кн. III, № 9, 2-я обложка.)
Присмотримся теперь ближе к облику Дарьи Федоровны Фикельмон. Новые источники позволяют сейчас восстановить его многим полнее, чем он был известен раньше.
В первом приближении этот облик определяется одним словом - очарование. Очарование внешнее, очарование духовное - на этом сходятся все, писавшие о графине и при ее жизни и после смерти.

Д. Ф. Фикельмон. Рисунок Пушкина. Определен А. М. Эфросом.
О внешности Фикельмон свидетельств немало, но, к сожалению, никто не описал ее подробнее. Можно быть, однако, уверенным в том, что некий генерал Эссен без зазрения совести польстил Кутузову, уверяя старого полководца, что маленькая Даша очень на него похожа. И в детстве и в ранней юности она была уже красавицей удивительной. Граф М. Д. Бутурлин, впервые встретивший Долли во Флоренции, вспоминает, что "молодые графини Екатерина и Дарья (Долли) Федоровны Тизенгаузен только что начинали выезжать в свет и были во всем блеске красоты; но особенно поражала даже меня, десятилетнего мальчугана, пятнадцатилетняя графиня Дарья Федоровна" (в действительности Долли тогда было всего тринадцать).
Точно так же молодой князь Д. И. Долгоруков, видевший супругу австрийского посланника в Неаполе в 1822 году, пишет отцу из Рима: "... г-жа Фикельмон прекрасна, ее сестра очень хороша собой...". Появление восемнадцати-девятнадцатилетней графини в петербургском и московском обществе в 1823 году производит, видимо, очень сильное впечатление. Будущий декабрист А. А. Бестужев сообщает матери из Петербурга 3 сентября этого года, что на Петергофском празднике "... первая красавица была графиня Фикельмон, дочь Хитровой и внучка Кутузова - в самом деле прекрасная женщина".1
1 (Памяти декабристов. Сборник материалов. I, Л., 1926, стр. 40.)
В свою очередь П. А. Вяземский пишет А. И. Тургеневу из Москвы: "И нашу старушку вскружила Фикельмон. Все бегают за ней; в саду дамы и мужчины толпятся вокруг нее; Голицын празднует. Впрочем, она в обращении очень мила".1 Впоследствии, в 1831 году, О. С. Павлищева, сестра Пушкина, считает, что графиня Фикельмон не менее красива, чем ее невестка Наталья Николаевна,2 а Вяземский в письмах к А. И. Тургеневу обычно называет графиню "австрийской красавицей".
1 (Остафьевский архив кн. Вяземских, т. II, стр. 354 (письмо от 1 декабря 1823 г).)
2 (Письма О. С. Павлищевой к мужу, Н. И. Павлищеву, в 1831 и 1832 гг. из Петербурга. Пушкин и его современники, вып. XV, стр. 184.)
Эпитет "красавица" неотделим от имени Долли Фикельмон, причем красота ее, как кажется, была ласковой, чарующей.
Вероятно, не раз графиню писали и рисовали знавшие ее художники. Может быть, где-то хранятся и ее скульптурные изображения. Долгое время, однако, не было известно ни одного портрета Дарьи Федоровны. За последние десятилетия и в Советском Союзе и за рубежом их обнаружено несколько, но, насколько я знаю, вплоть до 1930 года был опубликован лишь набросок Пушкина, определенный А. М. Эфросом.1 По его мнению, этот рисунок следует датировать концом 1832 или началом 1833 года.2 Он был сделан Пушкиным на полях черновика, использованного затем в "Медном Всаднике".
1 (Пушкин и его современники, вып. XXXVIII - XXXIX, 1930, стр. 180 - 181.)
2 (Абрам Эфрос. Пушкин портретист. М., 1964, стр. 33, 209 - 214.)

Д. Ф. Фикельмон. Художник Т. Уинc. Акзарель, белила. Всесоюзный музей А. С. Пушкина.
На первый взгляд рисунок несколько разочаровывает. Он может показаться, как сейчас принято называть, "дружеским шаржем". А. Эфрос справедливо замечает: "Рисунок (Пушкина) отличается тем особым, почти утрированным сходством, которое подводит все пушкинские наброски к схематизму, очень часто достигает границы каррикатуры и нередко переступает их". Сравнивая этот набросок портрета с акварелью неизвестного художника (несомненно, малоодаренного любителя), которая послужила автору для идентификации рисунка поэта, А. Эфрос, однако, говорит: "Пушкин же, свободно изобразив резкую удлиненность профиля, крупный изогнутый нос (...), в то же время сумел передать то, что его модель была красавицей, одной из прекраснейших женщин петербургского общества 1830-х годов (...)".
Акварель, использованная А. Эфросом и несомненно oизображающая Д. Ф. Фикельмон, впервые была экспонирована на юбилейной выставке 1937 года в Москве. В настоящее время она хранится в фондах Всесоюзного Музея А. С. Пушкина. Мы не воспроизвели этого неудачного изображения, так как, по словам того же А. Эфроса, в нем "сказывается откровенный дилентантизм; это - домашняя копия более художественного оригинала, пока не обнаруженного и где-то залежавшегося или пропавшего; поэтому копиист, хотя старательно воспроизводит в акварели типичность черт, однако не справился с их характерной прелестью".
С разрешения покойного ныне профессора А. В. Флоровского я опубликовал в 1965 году фотокопию с портрета (акварель, белила) работы английского художника Т. Уинса (Th. Wins) - 1782 - 1857, исполненного в Неаполе в 1826 году. Этот портрет был обнаружен в Вене у букиниста Яковлевым и позднее принесен им в дар Всесоюзному Музею А. С. Пушкина. В настоящее время портрет находится в экспозиции в гор. Пушкине. Графине 21 - 22 года, но выглядит она старше. Красота у нее сочетается с величавой наружностью дамы большого света. Пушкин познакомился с Долли Фикельмон, когда графиня была несколько старше; Александр I знал ее совсем молодой.
Сильвия Островская,1 не раз уже оказывавшая мне очень ценные литературные услуги, предоставила в мое распоряжение фотокопию, которую она случайно приобрела в Праге. По мнению художников, снимок сделан с акварели. Она изображает трех молодых (но вполне взрослых) красивых женщин, очень похожих между собой.
1 (В настоящее время С. Островская состоит старшим ассистентом кафедры факультута общественных наук Университета семнадцатого октября, созданного в Праге для зарубежных студентов.)

Д. Ф. Фикельмон (крайняя справа), Е. Ф. Тизенгаузен, А. П. Тизенгаузен. Художник Е. Петер. 1832 год. Акварель. Местонахождение оригинала неизвестно. Определила Сильвия Островская (Прага)
Предоставляем теперь слово Сильвин Островской, которая охотно и почти правильно пишет по-русски: "Пожалуйста, примите как маленький сувенир копию одной старой фотографии, которую случайно купила с одной книгой в антиквариате. Когда в 1962 году в Ленинграде увидела в квартире Пушкина малый портрет графини - стало ясно, что незнакомая на фото - это она. Предполагаю, что эти двое - Екатерина Тизенгаузен и Адель Штакельберг (...). Почти забыла написать - у Долли на лбу диадема (первая направо)" - письмо из Праги от 6 апреля 1967 года.
По мнению С. Островской, средняя из "трех красавиц", как их называет исследовательница, это сестра Долли, гр. Е. Ф. Тизенгаузен, слева от нее - их любимая кузина, графиня Адель (Аделаида) Павловна Штакельберг, урожд. графиня Тизенгаузен.
Т. Г. Цявловская, ознакомившись со снимком, разрешила мне упомянуть о том, что, по ее мнению, аттрибуция С. Островской в отношении Д. Ф. Фикельмон правильна. Действительно, на предполагаемом ее портрете мы видим те же характерные особенности лица, которые выявили у Дарьи Федоровны Пушкин, Уинс и неизвестный художник-копиист.
Сбоку снимка ясно читается подпись: "Е, Peter 1832".
Находка С. Островской представляет несомненный интерес - датированный портрет гр. Фи кельм он относится ко времени ее близкого знакомства с Пушкиным. Кроме того, мы, возможно, получаем представление о внешности А. П. Штакельберг за год до ее ранней смерти. 29 ноября 1833 года Пушкин отметил в своем дневнике: "Молодая графиня Штакельберг (урожд. Тизенгаузен) умерла в родах. Траур у Хитровой и у Фикельмон". Если предположение Островской верно, то мы знакомимся и с двадцатидевятилетней фрейлиной гр. Е. Ф. Тизенгаузен. Другой ее портрет экспонировался на юбилейной выставке 1937 года.
В отношении правильности атрибуции этой работы Е. Петеру (1799 - 1873) возникает, однако, существенное затруднение. Искусствовед А. Н. Савинов (Ленинград) сообщил мне, что по наведенным им справкам художник Е. Peter в 1832 году в Россию не приезжал. С другой стороны известно, что Д. Ф. Фикельмон в этом году не ездила за границу. Тем не менее возможно, что очень модному тогда венскому миниатюристу были посланы из Петербурга какие-либо портреты Дарьи Федоровны, ее сестры и кузины, пользуясь которыми, художник и скомпановал заочно свою изящную группу. Местонахождение оригинала неизвестно.
Сильвия Островская обогатила иконографию Д. Ф. Фикельмон еще одной находкой. В Дечинском архиве она обнаружила и опубликовала в своей краткой статье1 небольшую фотографию графини. Этот портрет, помещенный в многотиражном журнале, для репродукции не годится. С. Островская прислала мне, однако, очень хорошую фотокопию найденного ею портрета, который и публикуется в этой книге.
1 (S у 1 v i e Oslrovska. Vnucka M. I. Kutuzova. (Си л ь в и я Островская. Внучка М. И. Кутузова), "Praha - Moskva", 1959, № 4, стр. 254.)
Пожилой женщине на вид пятьдесят с лишним лет. Она, по-видимому, в трауре,- возможно, по мужу, скончавшемуся, как мы знаем, в 1857 году, когда Дарье Федоровне было 52 года. Хотя снимку более ста лет, но он, видимо, сделан очень хорошим по тому времени фотографом. Впервые мы ясно видим близкое к старости, но все еше прекрасное, умное лицо той, которой любовались современники Пушкина. Не портит его ни крупный нос, должно быть, унаследованный от отца, ни довольно большой, но красивый рот.
Итак, мы теперь до некоторой степени знаем, какова была внешность графини Фикельмон. Надо, однако, сказать, что молодой мы видим ее пока неясно. Даже лучшие, на мой взгляд, изображения - прелестный, но очень схематичный рисунок Пушкина и портрет Уинса - лишь отчасти передают необыкновенную красоту графини Долли. Не производит впечатления и профессионально искусная, но какая-то бездушная акварель Е. Петера. Характерно, что лица, которым я показал найденный С. Островской групповой портрет, единодушно находят, что старшая сестра кажется красивее младшей. Современники "трех красавиц" сталь же единодушно отдавали предпочтение Долли.
В конце тридцатых годов в Праге мне удалось увидеть в обширном собрании художника Николая Васильевича Зарецкого, страстного и удачливого коллекционера, несколько экземпляров очень хорошей литографии с портрета Д. Ф. Фикельмон кисти венского художника, фамилию которого я, к сожалению, не помню.

Д. Ф. Фикельмон. Фотография конца 1850-х годов. Подлинник в архиве графа Фикельмон в г. Дечине (Чехословакия)
Пожилая женщина, лет сорока пяти. По общему облику похожа на мать, совсем не отличавшуюся красотой, но все черты Елизаветы Михайловны как бы исправлены и облагорожены художницей-природой. Долли Фикельмон - брюнетка с необыкновенно красивыми бархатистыми глазами. Прекрасные волосы, очень открытые по моде того времени плечи. Вряд ли живописец преувеличил их красоту. Умный, серьезный и в то же время оживленный взгляд. Глядя на эту литографию, понимаешь, почему двадцатью годами раньше Дарья Федоровна считалась одной из самых красивых женщин николаевского Петербурга.
Упомянем еще о том, что на надгробной стеле Елизаветы Михайловны итальянский скульптор, несомненно, изобразил ее скорбящих дочерей. Коленопреклоненная, очень стройная фигура справа,- вероятно, Долли, более полная молодая женщина, простирающая руки к изображению матери - ее старшая сестра. Ваятель, можно думать, верно передал общий облик обеих, но портретного сходства я не вижу.
Иконография Д. Ф. Фикельмон, как мы видели, бедна - мы не знаем пока ни одного ее портрета работы первоклассного художника. Что касается графа Шарля-Луи, то я должен еше раз и, как всегда с благодарностью, упомянуть имя моей пражской корреспондентки, все той же Сильвии Островской, которая прислала мне репродукцию портрета , Фикельмона, помещенную в книге Иозефа Полишенского.1 Подлинник портрета находится в данное время в художественной галерее г. Теплица.2 По-видимому, чешскому автору не удалось разыскать более ранних изображений графа - в 1820 году генерал-майору Фикельмону было всего 43 года, а на портрете мы видим старика лет семидесяти с лишним. У него умное, добродушное лицо, но фельдмаршал-лейтенант, несмотря на сохранившуюся военную выправку, выглядит хилым, болезненным человеком. Таким он, видимо, и был в старости, даже не очень глубокой. 1 июля 1845 года Дарья Федоровна пишет В. А. Жуковскому из Карлсбада: "На днях я говорила о вас с Фикельмоном, которого вы видели,- для мужчины у него очень болезненный вид (,..)".3 Графу в это время 68 лет, его жене - 41.
1 (Josef Polisensky. Opavsky kongres roku 1820 a europska politika let 1820 - 1822, (Иозеф Полишенский. Конгресс в Опабу (Троппау) 1820 года и европейская политика 1820 - 1822 годов). Opava 1822.)
2 (...в художественной галлерее г. Теплица.- Многочисленные картины и портреты, украшавшие покои Теплицкого замка, по-видимому, сохранились, но вывезены оттуда и сейчас фактически недоступны для изучения. 28 августа 1963 года А. В. Флоровский писал мне по этому поводу: "Куда-то все из Теплица вывезено и разрознено, стоит в ящиках в разных местах". 24 марта 1964 года он добавил: "...бытовые украшения замка - в различных замках, где утратили свою неповторимую принадлежность к известному интерьеру (...). Портреты смешаны в одну кучу и трудно установить их происхождение, и т. д.".)
3 (ИРЛИ, 28305, СС II б. 1G8. Подлинник по-французски.)
В Москве на юбилейной выставке 1937 года была экспонирована литография Вагнера с какого-то портрета Фикельмона.1 Ознакомиться с ней мне не удалось.
1 (1837 - 1957. Всесоюзная Пушкинская Выставка. Москва. (Краткий путеводитель), стр. 57. К. Л. Фикельмон. Литография Вагнера.)
Хотя у нас нет пока хорошего портрета Дарьи Федоровны Фикельмон, но ее очаровательная красота сомнению не подлежит.
Не меньше очарования и в ее духовном облике. Ему поддавались почти все, кто входил с ней в общение. Об этом говорит и самый ранний известный нам документ о жизни графини Долли - письмо ее жениха генерала Фикельмона к бабушке невесты, княгине Кутузовой, которое я уже цитировал.
П. А. Вяземский и А. И. Тургенев, близкие друзья Фикельмон, в своих письмах не раз вспоминают графиню. Надо сказать, что их огромная переписка очень интимна. Об общей своей приятельнице, не в меру восторженной Е. М. Хитрово, они порой отзываются язвительно и довольно-таки резко. Но как только речь заходит об ее дочери, графине Долли, эти, уже немолодые, много видевшие люди, пишут тепло, задушевно, а более чувствительный Тургенев даже восторженно. 28 июля 1833 года он обращается к Вяземскому из Женевы:1 "Неужели я не писал из Рима и не благодарил милую посольшу за письма в Неаполь? Жаль, что теперь поздно! Но ты объясни, как я мог - не забыть об этом, а пропустить случай сказать ей все, что она зажгла в душе моей и своими глазами, и своими умными разговорами, и поэтическими строками в письме о поэтическон Италии. Как ее все помнят и любят в Неаполе! Как она к лицу этому земному раю1 Там бы взглянуть на нее! В цветниках виллы Reale,2 при плеске волн Соррентских! У грота Виргилия!...".
1 (Архив братьев Тургеневых, вып. 6, СПб., 1921, стр. 276.)
2 (Королевской.)
"Милая красавица посольша", "прекрасная посольша", "милая посольша" - Тургенев с глазу на глаз с Вяземским не перестает повторять ласковые слова об общем их петербургском друге.
Поддался очарованию совсем юной Фикельмон и царь Александр I, подходивший в 1823 году к концу своего многосложного, но недолгого жизненного пути. Об этом красноречиво свидетельствуют приведенные выше выдержки из его писем к девятнадцатилетней посланнице.1
1 (Письма к Хитрово, стр. 157. В те месяцы 1823 года, когда Д. Ф. Фикельмон виделась с Александром I, ей еще не исполнилось 19 лет.)
Всех восторженнее отзывается о графине разбитый параличом слепец-поэт И. И. Козлов, никогда ее воочию не видевший, но очарованный ее лаской и добротой. Для него она та, "... кто взору и сердцу на радость улыбкою небес дана".
Попытаемся проверить отзывы очарованных друзей по дневнику Фикельмон, первую часть которого мы теперь знаем почти полностью, а вторую - по выдержкам, приведенным А. В. Флоровским. Используем и ее многочисленные письма к сестре, когда-то опубликованные в Париже. Последними, конечно, надо пользоваться с осторожностью. Нас интересует прежде всего та Долли Фикельмон, которую знал Пушкин, а переписка с сестрой относится ко временам послепушкинским (1840 - 1854 годы). Однако в Петербург посольша приехала уже вполне сложившимся человеком. В своей основе ее душевный строй, особенно в первые годы после смерти поэта, несомненно, оставался тем же, что был раньше.1
1 (Характеристику графине Фикельмон во многих отношениях значительно пополняет ее петербургская (в основном) переписка с кн. П. А. Вяземским, которую я излагаю в следующем очерке, а также отрывки из писем Дарьи Федоровны к мужу, только что опубликованные Н. Каухчишвили.)
В петербургском дневнике очень много жизнерадостной светской болтовни, в письмах меньше радости (и чем дальше тем меньше), но великосветских новостей, для нас сейчас неинтересных, тоже много. Однако не в рассказах о бесконечных развлечениях большого света ценность и прелесть писаний графини Долли. Можно эти рассказы выпустить почти целиком, а то, что останется - характеристики людей и событий, отзывы о виденном и прочитанном, вдумчивые размышления о государственных делах,- позволят нам яснее себе представить Дарью Федоровну Фикельмон.
Графиня Долли, несомненно, добра и отзывчива. В письмах, вообще более содержательных, чем дневниковые записи, это особенно чувствуется. Дневник - прежде всего светская хроника, письма - задушевная беседа с любимой сестрой.
Нечего и говорить о том, что сво'их близких она любит крепко и действенно. Порой ей даже кажется, что в этой любви есть нечто греховное. Любит, но страшится вечной разлуки - "это приковывает меня к земле..."1- пишет она сестре 11. IV. 1851 года.
1 (Выдержки из французских писем Д. Ф. Фикельмон, за немногими исключениями, были мною переведены и впервые опубликованы по-русски в 1965 году. Письма в большинстве случаев обозначаются только датой их написания, так как издания, в которых они опубликованы, имеются лишь в очень немногих библиотеках Советского Союза.)
Всю жизнь Долли Фикельмон старалась быть полезной людям, с которыми встречалась. Постоянно она за кого-нибудь хлопочет, то и дело просит сестру помочь - то новому австрийскому послу, незнакомому с петербургскими светскими обычаями, то испанскому генералу, то русской девице, просрочившей заграничный паспорт. В Милане во время революции 1848 года, оставшись одна, ухаживает вместе с хирургом за смертельно раненым поваром-французом. Знакомых у нее множество. У них неудачные увлечения, неудачные браки, болезни, смерти близких - обо всем этом графиня неизменно пишет в Петербург и для всех находит участливое слово. Нередко переживает чужое горе, как свое собственное. Она грустит не только о случившихся несчастьях, но и о тех, которые могут произойти. Особенно тревожится за судьбу талантливых людей. Она, например, с восторгом слушает девочек-скрипачек Миланолло, но старшей из них пророчит близкую смерть. Графине кажется, что "ее игра и ее лицо (...) не предназначены к тому, чтобы долго оставаться на земле" (26.V.1843). В данном случае предчувствие Дарьи Федоровны не оправдалось: старшая Миланолло прожила долго, а младшая, судьба которой, казалось ей, должна была быть безмятежной, умерла шестнадцати лет.
Итак, доброта Фикельмон и ее любовь к людям несомненны, но, надо сказать, что они обращены почти всегда лишь на своих - титулованных, знатных, хорошо воспитанных людей большого света. Только для больших артисток она зачастую делает исключение; вообще же в свой узкий круг Дарья Федоровна замыкается вполне сознательно.
Дарья Федоровна порой грубо ошибалась, но ум у нее все же несомненно был выдающимся. Не надо забывать, что такие почитатели ее, как Вяземский и Тургенев,- люди большой культуры и широкого ума, и идти с ними вровень в духовном отношении молодой женщине было не так-то просто. Хранитель пушкинской традиции П. И. Бартенев, лично знавший многих современников и друзей Фикельмон, издавна считал ее женщиной "отменного ума".1 Этот ум, несомненно, углублялся и зрел с годами. Автор писем, особенно поздних, мудрее и грустнее той Долли Фикельмон, которая писала петербургский дневник и которую знал Пушкин, но основные качества ее интеллекта, конечно, остались те же.
1 (Л. Хомутов. Из бумаг поэта И. И. Козлова, "Русский архив", 1886, кн. I, стр. 184.)
Была умна и ее мать, дочь умнейшего Кутузова, но ум у нее довольно беспорядочный. У Дарьи Федоровны он строен, точен, организован. "Мой логический ум",- говорит она сама о себе, и нельзя с ней в этом отношении не согласиться. Всегда ясна ее мысль (верная или ошибочная - другой вопрос), стройны и точны многочисленные и длинные рассуждения о политических, исторических, литературных и иных вопросах. То же самое надо сказать и об ее отлично построенных французских фразах (пражские и венские корректоры журналов местами их порядком исковеркали). Словоупотребление у графини Фикельмон не всегда правильное - сказывается влияние немецкого и итальянского языков, но писать она все же мастер, и следить за ходом ее мысли легко.
Самая сильная и своеобразная сторона ее мышления - это способность до некоторой степени предугадывать будущее. Недаром в свое время австрийская императрица прозвала совсем юную девушку "Сивиллой флорентийской". Она думала, несомненно, о вещих девах, которым древние греки и римляне приписывали дар прорицания.
Ничего сверхестественного в графине Фикельмон, конечно, не было. Была та удивительная интуиция, которая зачастую позволяет большим шахматистам, всмотревшись в расположение фигур, предвидеть исход партии тогда, когда для игроков послабее он еще совсем неясен.
Конечно, многолетнее общение с мужем, опытным и умным дипломатом, очень помогло ей в этом отношении, В политике Долли Фикельмон, в общем, внимательная ученица и последовательница графа Шарля-Луи. Данные, которые приводит Н. Каухчишвили, не оставляют сомнений в том, что, выйдя замуж очень юной, она много и добросовестно работала над собой. Изучив многочисленные письма Долли к мужу, хранящиеся в Дечине и в печати неизвестные, исследовательница замечает: "В Неаполе происходит медленное превращение характера Долли. Девушка, подготовленная к тому, чтобы занять очень видное положение в высшем обществе, была еще мало знакома с проблемами своего времени. Под руководством мужа, человека выдающегося ума, ей удается расширить свои духовный кругозор и за сравнительно короткое время, в молодом еще возрасте, достигнуть полной зрелости".1
1 (Дневник Фикельмон, стр. 22.)
Вместе с тем, при всем своем восхищении духовным богатством мужа, Долли Фикельмон сохраняет все же известную самостоятельность мысли и в политических, и в философских, и, в особенности, в литературных вопросах. Было бы ошибкой считать, что графиня - лишь интеллектуальная тень умного мужа. Однако самостоятельность политического мышления, надо сказать, проявляется у нее уже в пожилые, послепушкинские годы. В Петербурге супруга посла, по-видимому, в этом отношении думала в полном согласии с мужем. Н. Каухчишвили, изучавшая в Вене донесения Фикельмона Меттерниху, пишет: "Сравнивая страницы дневника с дипломатическими донесениями Фикельмона, поражаешься сходством, существовавшим между супругами: их оценки людей и событий почти совпадают".1
1 (Там же, стр. 24.)
Впоследствии, в заграничных письмах к сестре, графиня, насколько можно судить, высказывает нередко взгляды более самостоятельные.. Самостоятельны и многие ее предвидения. Она предугадала, например, австро-прусскую войну 1866 года и франко-прусскую 1870 года, которые разыгрались уже после ее смерти.
И в молодые еще годы у "красавицы-посольши", несомненно, были серьезные умственные интересы. В дневнике они чувствуются не часто - говорить сама с собой о "материях важных и высоких" Фикельмон, видимо, не любила. 18. XII. 1830 она отмечает: "Я почти не пишу дневника. В обществе все так печально, что нечего о нем сказать, а я вовсе не хочу создавать здесь сборник размышлений (...)".
Надо, однако, сказать, что размышлений, порой серьезных и глубоких, в дневнике все же немало. Тем не менее графиня, несомненно, предпочитала обсуждать серьезные вопросы в письмах и главным образом в дружеской беседе. К сожалению, лишь очень немногие из ее собеседников упомянули об этих разговорах, касавшихся вопросов, которые волновали в то время русское и европейское общество.
Одним из отечественных вопросов такого рода было "дело Чаадаева". В 1836 году близкий друг Пушкина, отставной гусарский офицер Петр Яковлевич Чаадаев, духовно смелый и оригинальный философ, напечатал в журнале "Телескоп" отрывок из своего первого "Философического письма", должно быть, по недоразумению пропущенный цензурой.1 В нем автор в крайне пессимистическом духе говорил об истории России и ее участии в духовной жизни человечества. Письмо, за которое автор, по приказанию царя, был объявлен душевнобольным, вызвало большие споры среди русских образованных людей. Граф Фикельмон в донесении канцлеру Меттерниху от 7(19) ноября 1836 года сообщает, что, по мнению автора письма, все беды России следует приписать "гибельному решению заимствовать религию и цивилизацию из Византии, падавшей от гнилости, вместо того, чтобы примкнуть к римской церкви, которая так высоко вознесла цивилизацию на всем Западе". Посол считает, что это письмо "... упало, как бомба, посреди русского тщеславия и тех начал религиозного и политического первенствования, к которым весьма склонны в столице".2
1 (В своей статье "Пушкин в итальянском издании дневника Д. Ф. Фикельмон" (Врем. П. К. 1967 - 1968, Л., 1970, стр. 14 - 32) М. И. Гиллельсон подробно разбирает вопрос об отношении графа Фикельмона к "Философическим письмам" Чаадаева (послу были известны первое и неопубликованное третье).)
2 (Дневник Фикельмон, стр. 76. Перевод М. И. Гиллельсова.)
Из дневника А. И. Тургенева мы узнаем, что 6 декабря 1836 года он, будучи у графини Фикельмон, много говорил с ней и ее мужем о Чаадаеве.1 Дарья Федоровна, как и граф Шарль-Луи, вероятно, ознакомилась с содержанием знаменитого письма по подлинному французскому тексту, опубликованному, как сообщает Н. Каухчишвили, еще в 1830 году.2 Графиня вряд ли разделяла мнение своего мужа, который соглашался с утверждением Чаадаева о пагубной роли византийского христианства в истории России, так как она, глубоко уважая католическую религию, все же до конца жизни, как мы знаем, оставалась православной. Точнее ее взглядов на историко-философскую концепцию Чаадаева мы не знаем. Еще одна дневниковая запись А. И. Тургенева (27 ноября 1836) показывает, что разговоры о Чаадаеве велись в салоне Фикельмон в течение ряда дней.
1 (Щеголев, стр. 276.)
2 (Дневник Фикельмон, стр. 76. М. И. Гиллельсон считает, однако, (утверждение Н. Каухчишвили о давнишней публикации первого письма во Франции явным недоразумением.)
8 января 1837 года Тургенев послал Дарье Федоровне какое-то сочинение Ламеннэ - бывшего главы французских .неокатоликов (в 1834 году он порвал с церковью). Консерваторы во Франции считали этого христианского социалиста революционером-якобинцем. Как мы увидим, идеями Ламеннэ Фикельмон интересовалась издавна.1
1 (Отзывы Д. Ф. Фикельмон о Ламеннэ читатель найдет в следующем очерке, посвященном переписке графини с кн. П. А, Вяземским.)
Я уже упомянул о том, что почти все опубликованные до сих пор письма Дарьи Федоровны относятся к послепушкинскому времени, когда ей было 36 - 50 лет. Однако и в пору знакомства с поэтом, в 25 - 32 года, ее взгляды и интересы уже вполне сложились. Надо думать, например, что, как и впоследствии, она много и внимательно читала французскую историческую литературу своего времени. Особенно интересовала ее всегда история революций и причины их возникновения. Следует сказать, что у нее, убежденного консерватора, все же было, говоря современным языком, сильно развито сознание необратимости исторических процессов: "... нельзя остановить потока; что может сделать один человек против духа своего времени?" - писала она 14 июня 1848 года.
О широте ее духовных интересов отчасти можно судить и по довольно скудным в этом отношении дневниковым записям. Поговорив в Дерптском университете со знаменитым астрономом Струве, она замечает, например: "Если бы я стала ученой, то непременно стала бы астрономом". Фикельмон объясняет и причину своего выбора: эта наука "должна быть наиболее отрешенной от земли".1 Записывает она и свои впечатления от речи Гумбольдта на заседании, устроенном в честь знаменитого ученого Российской Академией наук 11 ноября 1829 года. В хорошо сказанной речи президента Академии наук С. С. Уварова ее удивила высокопарная фраза: "... войдите, боги здесь. Да, боги разума и мысли повсюду те же". Она отмечает скромность Гумбольдта, который в заключительной речи "довольно длинной, но очень интересной" подчеркнул заслуги своих спутников по русскому путешествию, профессоров Эренберга и Розе. "Все, что он сказал о России, было поучительно, интересно и могло бы стать полезным".
1 (Флоровский. Дневник Фикельмон, стр. 58.)
В этот же день Гумбольдт обедал в австрийском посольстве.
Можно быть уверенным в том, что Долли Фикельмон не робела, беседуя" с великим ученым. Естествознания она, как кажется, не изучала, но помимо природного ума, обладала ко времени приезда в Петербург постепенно накопленными серьезными познаниями в истории, международной политике, литературе.
Есть основание думать, что Дарья Федоровна была несколько знакома и с общей философией. После смерти графа она, как свидетельствует Барант, "переписала и собрала" заметки мужа по разным вопросам, зачастую набросанные карандашом.1 Возможно, что Барант не только составил биографический очерк Фикельмона, но и окончательно отредактировал эти записи. Однако, если бы графиня не разбиралась в их содержании, она не смогла бы выполнить своей части работы - в конце жизни граф Шарль-Луи писал крайне неразборчиво. Между тем, второй раздел книги целиком посвящен философии (о системе Гельвеция, об эклектизме и т. д.).
1 (Pensees et reflexions morales et politiques du comle de Ficquelmont. (Мысли и раздумья нравственные и политические графа Фикельмона). Paris, 1859, стр. XXII.)
Что касается религиозно-философских вопросов, то петербургской дневник, несомненно, свидетельствует о том, что в духовной жизни Дарьи Федоровны они занимали большое место.
VI
Да, очень незаурядным человеком была Долли Фикельмон, но не будем чересчур отяжелять умными разговорами и умными книгами прелестный образ "посланницы богов - посланницы австрийской", как назвал ее Вяземский. Она была, конечно, много умнее и образованнее большинства дам петербургского большого света, но никак нельзя применить к ней пушкинские стихи:
Не дай мне бог сойтись на бале Иль при разъезде на крыльце С семинаристом в желтой шале Иль с академиком в чепце!
Несмотря на грустный, порой, строй мыслей, характер у Фикельмон - особенно в молодости - был очень жизнерадостный. Веселиться она любила и умела.
В тридцатых годах светская жизнь в Петербурге была очень интенсивной. Читая мемуары и дневники современников, порой удивляешься, как только у них хватало сил ездить без конца на балы, рауты, приемы, а днем еще делать бесчисленные визиты. Только в 1831 году уход всей гвардии на Польскую войну и, в особенности, холерная волна, докатившаяся до столицы в половине июня этого года, на много месяцев прервали светские развлечения. Наконец, 6 октября на Марсовом поле было отслужено "благодарственное господу богу молебствие" по случаю окончания войны в Польше. В конце октября балы возобновились.
Само собой разумеется, что в развлечениях высшего общества дипломатический корпус принимал самое близкое участие. Знатные русские семьи (правда, не все) издавна любили принимать иностранцев. Нередки были и официальные приемы и балы во дворцах у царя и великих князей. Австрийского посла с женой приглашали и на интимные вечера царской семьи. Это считалось большой честью, и ее удостаивались очень немногие дипломаты.
Графине Долли приходилось, хотела она этого или не хотела, бывать повсюду. Пока не начала постоянно страдать жестокими головными болями, несомненно хотела. За границей, когда ее заболевание утихло, Дарья Федоровна снова надолго оказалась, подобно Александре Осиповне Смирновой-Россет, "в тревоге пестрой и бесплодной большого света и двора" - на этот раз австрийского. В поздних письмах Фикельмон, как и в петербургском дневнике, светская жизнь занимает, на мой взгляд, утомительно много места. Как проходил венецианский закат жизни графини, мы не знаем...
В Петербурге больше всего балов бывало на святках 1 и на масленице. Опубликованная часть дневника графини Долли позволяет установить некоторые цифры "бальной статистики". Возьмем для примера 1830 год, когда светскую жизнь ничто не нарушало. С 11 января по 16 февраля (3G дней) Фикельмон упоминает о 15 балах, на которых она присутствовала. Раньше трех часов ночи они не кончались, а некоторые продолжались и до шестого часа утра. Танцевали, можно сказать, не щадя сил. Сохранилось, например, письмо фрейлины Анны Сергеевны Шереметевой,2 в котором она сообщает, что на балу в Министерстве уделов 5 марта 1834 года танцевали следующие танцы: 2 мазурки, 3 вальса, 12 кадрилей (так!), 1 галоп, 1 "буря", 1 попурри, 1 гросфатер (всего 21 танец).
1 (Время между праздниками рождества и крещения (от 25 декабря до 6 января ст. ст.).)
2 (Архив села Михайловского, т. II, вып. I, СПб., 1902, стр. 33 - 34.)
В дневнике, опубликованная часть которого, не забудем, охватывает всего два с половиной года, графиня Фикельмон описывает множество балов, но большинство этих описаний для нас сейчас неинтересно. Остановимся все же на нескольких - ведь на таких же балах, порой весьма скучных, порой веселых и оживленных, по двойной своей обязанности - мужа прелестной жены и камер-юнкера двора его величества бывал несколько позднее и Пушкин. Для одного из них он, как известно, написал своего "Циклопа", короткое стихотворение, которое графиня Екатерина Тизенгаузен продекламировала в Аничковом дворце у великой княгини Елены Павловны 4 января 1830 года.1 Сам поэт там не был, не была из-за австрийского придворного траура и Фикельмон. Очевидно, со слов сестры она так описывает 8 января это довольно странное действо, в котором пришлось принять участие и И. А. Крылову, изображавшему музу Талию: "Здесь принц Альберт Прусский, младший сын короля.2 (...). Несколько дней тому назад был устроен для императрицы сюрприз, который очень удался,- это был род шуточного маскарада; весь Олимп в карикатуре, женщины представляли богов, мужчины - богинь. Граф Лаваль, старый, замечательно безобразный и сильно подслеповатый, был грацией вместе с Анатолием Демидовым и Никитой Волконским. Станислав Потоцкий, громадного роста и ширины, изображал Д и а ну; князь Юсупов, весьма некрасивый, фигурировал в качестве Венеры. Женщины все были хорошенькие: Екатерина в виде Циклопа, Аннет Толстая - Нептуна, обе очаровательные. Великая княгиня в виде Урании танцевала менуэт с Моденом - Большой Медведицей.3 Я видела многие костюмы у Модена, где собирались участвовавшие".
1 (Письма к Хитрово, стр. 40 - 46.)
2 (Брат императрицы Александры Федоровны.)
3 (По-французски - Grand Ours - Большой Медведь.)
Иногда на балах разыгрывались целые сцены, требовавшие сложной подготовки. Такие репетиции, вероятно, проходили весело.
4.II.1830 года графиня записывает: "Утром я была у императрицы по поводу приготовления костюмов для костюмированного бала 14. Она хотела, чтобы я участвовала в ее кадрили, заимствованной из оперы Фердинанд Кортец".1
1 (Опера Джовани Спонтини.)
Этот бал у министра двора князя П. М. Волконского состоялся через десять дней - 14 февраля. Сначала выступило полтора десятка "розовых и белых летучих мышей" в масках - в том числе императрица и графиня Долли. Затем в одном из салонов собрались все участники оперной кадрили, надо думать, тщательно разученной. Подождав, пока "мыши" с императрицей во главе переодевались, они торжественным кортежем вошли в зал: Монтезума - обер-церемониймейстер граф Станислав Потоцкий, его дочь - императрица, Фердинанд Кортец - принц Альберт и т. д., и т. д. Замыкали процессию жрицы Солнца, среди них - Долли, ее сестра и пятнадцатилетняя москвичка Ольга Булгакова, которая в этот вечер необычайно понравилась царю. Николай I велел ей снять маску; девочку отправили домой переодеться, и затем император и один из великих князей с ней танцевали.
Дарья Федоровна по этому поводу замечает: "Здесь контрасты во всем, но контрасты столь поразительные, что иногда действительно не знаешь, не грезишь ли ты. Наряду с этикетом и чопорностью порой видишь такую большую, такую полную непринужденность, и такой моментальный эффект, что ничего нельзя предусмотреть. Это царство молодости и первых импульсов".
Слов нет, Дарья Федоровна Фикельмон в 1830 году далеко не та увлекающаяся почти что девочка, какой она была семь лет тому назад, но не перечитала ли украдкой рассудительная посольша после этого бала голубые письма другого царя?
Прошло еще три года. Масленица 1833 года. Все по-прежнему, все то же самое. П. А. Вяземский пишет А. И. Тургеневу: "... вот и блинная неделя, и мы с бала на бал катимся как по маслу".1
1 (Остафьевский архив, кн. Вяземских, т. III, сгр. 219.)
6 февраля в австрийском посольстве состоялся бал, на котором присутствовала царская фамилия. Николай I был в мундире венгерских гусар. Два дня спустя графиня на маскараде все у того же министра двора князя П. М. Волконского танцевала вместе c другими дамами кадриль в костюмах XVIII века. На следующий день, 9 февраля, К. Я. Булгаков сообщает брату: "Как тебе описать вчерашний праздник? Я право не знаю; но ты возьми "Тысячу и одну ночь" "la lampe merveilleuse" (1) и что там описано, так сказать, во сне, то мы видели у князя Волконского наяву".2 П. А. Вяземский пишет тому же адресату (А. Я. Булгакову) проще, но выразительнее: "Вчерашний маскарад был великолепный, блестящий, разнообразный, жаркий, душный, восхитительный, томительный, продолжительный (...). Кадрили царицы были прекрасны, начиная с нее и великой княгини (...). Старофранцузский кадриль графини Фикельмон был также очень хорош, совершенно в духе того времени, и мог дать понятие, как деды влюблялись в наших бабушек с пудрою, мушками, фижмами и проч. Очень хороши были в этом кадриле сама графиня Долли и Толстая, фрейлина великой княгини. Бал продолжался до шестого часа (...)".3
1 (Волшебную лампу (франц.).)
2 ("Русский архив", 1904, кн. I, стр. 246.)
3 (П. П. Вяземский. А. С. Пушкин по документам Осгафьевского архива и личным воспоминаниям. "Русский архив", 1884, кн. I, стр. 422.)
Маскарады, где можно вволю посмеяться, пофлиртовать, поинтриговать знакомых и незнакомых, графиня Фикель-мон особенно любила, как любили их и многие другие. Однако в "свете" все друг друга знали, постоянно встречались и, несмотря на всяческие ухищрения - измененные жесты, умение говорить не своим голосом, на что Дарья Федоровна была, видимо, большая мастерица, ее не раз узнавали, и светский маскарад сразу становился неинтересным. Хотелось чего-то нового.
Такой новостью явились собрания в "Филармоническом зале" дома Энгельгардта на Невском проспекте. Приятель Пушкина, бывший член общества "Зеленая лампа", близкого к декабристам, Василий Васильевич Энгельгардт приобрел это здание в 1828 году и после капитальной перестройки превратил бывший растреллиевский дворец в доходный дом. Отставной гвардии полковник оказался удачливым дельцом. В нижнем этаже его дома помещалось несколько магазинов, в следующих трех - дорогие квартиры, а в большом зале1 и смежных аппартаментах устраивались общественные балы, маскарады, концерты.
1 (В настоящее время - малый зал Филармонии. Хорошо известный ленинградцам бывший дом Энгельгардта (Невский 30) сохранил, в общем, до наших дней тот же вид, который имел в 30-е годы XIX век.)
"Северная Пчела" описывает первый такой маскарад 5 февраля 1830 года в выражениях весьма восторженных: "Вот храм вкуса, храм великолепия открыт для публики. Все, что выдумала роскошь, все, что изобрела утонченность общежития, соединилось здесь. Тысячи свеч горят в богатых бронзовых люстрах и отражаются в зеркалах, в мраморах и паркетах, отличная музыка гремит в обширных залах...".1
1 ("Северная Пчела", 1830, № 17, 8 февраля (цитировано в кн. "Пушкинский Петербург". Л., 1949, стр. 266).)
Обстановка, как мы видим, далеко не демократическая, но все же эти "народные" маскарады были доступны для каждого, кто мог заплатить за вход, и церемонностью не отличались. В то же время графиня Долли записывает 13 февраля того же 1830 года: "Эти маскарады в моде, потому что там бывает император и великий князь, а дамы общества решились являться туда замаскированными".
Графиню Долли, видимо, увлекло это необычное развлечение. Первый ее опыт был, впрочем, неудачен. Явилась замаскированной в зал с матерью, сестрой Екатериной и Аннет Толстой, начала успешно интриговать, но императрица, сидевшая в ложе, послала за посольшей, царь привел к ней Долли под руку, и инкогнито было нарушено.
15 февраля опять запись о маскараде в доме Энгельгардта. Этот вечер был удачнее. Фикельмон поговорила, не будучи узнанной, с царем и с великим князем. Уверяет, что с ней, как с незнакомой, любезничал и собственный муж, но мы позволим себе в этом усомниться. Вероятно, граф Шарль-Луи просто хотел позабавить жену, прикинувшись обманутым.
Хотя графине уже 25 лет, но молодости в ней еще много, очень много, и по-прежнему она склонна к довольно-таки озорным эскападам в духе итальянских лет. 23 февраля того же года, встретившись со знакомой, которую не видела со времени своей свадьбы, посольша рассудительно записывает: "... я была такой юной, таким ребенком по уму, когда она меня знала, мои мысли так радикально изменились, что от прошлого у меня осталась только дружба, которую я питаю к людям".
Дарья Федоровна несомненно искренна, но также несомненно неправа. Изменилась она далеко не полностью - нас это интересует, чтобы выяснить, какова же в самом деле была графиня Фикельмон в пору ее знакомства с Пушкиным. 26 февраля (год все тот же) Долли и Екатерина Тизенгаузен заехали к генеральше Екатерине Петровне Голенищевой-Кутузовой, чтобы переговорить с ее сыном Борисом. Молодому человеку захотелось прокатиться с ними в санях, но места не было. Тогда сестры предложили ему надеть ливрею сопровождавшего их лакея. Сын петербургского генерал-губернатора стал на запятки и в таком виде проехался по Английской набережной и Невскому проспекту, где прогуливались в это время люди "большого света". Инкогнито раскрыто не было. Смеялись много. По словам графини, "... к счастью, было очень холодно и каждый был занят больше самим собою, чем другими".
Расскажем еще об одной совсем необычной эскападе, предпринятой Долли по инициативе ее "высочайшей" подруги, императрицы Александры Федоровны.
Ознакомление с опубликованной частью дневника показывает, что царица и посольша постоянно встречались в официальной и полуофициальной обстановке приемов и балов, но видеться наедине им было затруднительно. 14.XI.1830 г. Фикельмон записывает: "Третьего дня я видела императрицу; она приняла меня почти тайком в своем кабинете, так как этикет запрещает ей принимать посольшу частным образом". Все же между молодыми женщинами существовала большая близость. Фрейлина Шереметева сообщает, например, что в день одного из балов в австрийском посольстве (28.11.1834) императрица, перед тем как войти в зал, переоделась у графини. Такое переодевание в посольской квартире этикетом, конечно, предусмотрено не было.
О большой близости Фикельмонов к царской семье говорит, например, и то, что много лет спустя, в 1844 году, княгиня Кляри, узнав о смерти своей петербургской подруги, дочери царя Александры Николаевны,1 просит тетку достать для нее какой-либо предмет, принадлежавший покойной. Великая княжна Ольга Николаевна посылает дочери Дарьи Федоровны прядь волос сестры - подарок, который можно сделать только очень близкому человеку...
1 (Родилась в 1825 году, скончалась в 1844 от туберкулеза.)
От воспоминаний поздних и печальных вернемся опять к дружбе Долли и царицы.
Под 14 февраля 1833 года мы читаем в дневнике Фикельмон такую запись: "Бал-маскарад в доме Энгельгардта (в который раз! - Н. Р.). Императрица захотела туда съездить, но самым секретным образом, и выбрала меня, чтобы ее сопровождать. Итак, я сначала побывала на балу с мамой, через час оттуда уехала и вошла в помещение Зимнего дворца, которое мне указали. Там я переменила маскарадный костюм и снова уехала из дворца вместе с императрицей в наемных санях и под именем М-11е Тимашевой. Царица смеялась как ребенок, а мне было страшно; я боялась всяких инцидентов. Когда мы очутились в этой толпе, стало еще хуже - ее толкали локтями и давили не с большим уважением, чем всякую другую маску. Все это было ново для императрицы и ее забавляло. Мы атаковали многих. Мейендорф, модный красавец, который всячески добивался внимания императрицы, был так невнимателен, что совсем ее не узнал и обошелся с нами очень скверно. Лобанов тотчас же узнал нас обеих, но Горчаков, который провел с нами целый час и усадил нас в сани, не подозревал, кто мы такие. Меня очень забавляла крайняя растерянность начальника полиции Кокошкина - этот бедный человек очень быстро узнал императрицу и дрожал, как бы с ней чего не случилось. Он не мог угадать, кто же такая эта М-11е Тимашева, слыша, как выкликают ее экипаж. Кокошкин не решался ни последовать за нами, ни приблизиться, так как императрица ему это запретила. Он, действительно, был в такой тревоге, что жаль было на него смотреть. Наконец, в три часа утра я отвезла ее целой и невредимой во дворец и была сама очень довольна, что освободилась от этой ответственности".1
1 (Перевод записи об этом приключении сделан с фотокопии, стр. 144 - 146 2-й тетради дневника. В 1965 году я смог воспользоваться лишь неточным ее изложением в статье А. В. Флоровского.)
Таким образом приключение в духе халифа Гарун-аль-Рашида закончилось для дам благополучно. Не берусь судить, узнали ли о нем царь и посол и как они к нему отнеслись...
Много еще было увеселений - санная поездка великосветской компании в знаменитый "Красный кабачок" (у Долли "Krasnoi kabak"), катание с русских ледяных гор (очень страшное для южанки Фикельмон), поездка на пироскафах в Кронштадт - всего не перечислить, да и нельзя же без конца рассказывать об увеселениях... Были у графини Долли и другие интересы.
Музыку любила страстно, - кажется, она заразилась этой любовью в своей Италии.
Услышав снова в Вене свою любимую певицу-итальянку Паста, Долли замечает 6.III.1829 г.: "Слушать ее это настоящее наслаждение, и я при этом убеждаюсь больше чем когда-либо в том, что существует прямая связь между музыкой и всем, что есть наиболее таинственного в душе; никто не может отрицать, что она вызывает какой-то трепет. У тех, которые не чувствуют и не понимают музыки, одной душевной способностью меньше".1
1 (Дневник Фикельмон, стр. 36.)
Сама Дарья Федоровна музыку, несомненно, чувствовала и понимала. Соглашалась даже в Петербурге слушать зачастую посредственное исполнение любимых опер - оно напоминало ей о ранее слышанном хорошем. Бывала Фикельмон и в концертах - в Петербург иногда приезжали такие выдающиеся артисты того времени, как певицы Генриетта Зонтаг, Розальбина Карадори Аллен, знаменитый виолончелист Ромберг. Были и среди русских светских женщин отличные исполнительницы, например, певица фрейлина А. Н. Бороздина. Выдающейся пианисткой была сесгра воспетой Некрасовым княгини Е. И. Трубецкой Зинаида Лебцельтерн. П. А. Вяземский слышал ее игру в салоне Е. М. Хитрово. 2.VII.1832 г. он пишет жене "Играет она прелестно, с искусством, выражением, вкусом, душою. Вот, Пашенька1, так играй. Слушая, как она играет целые места из опер, точно кажется, что сидишь в оперном представлении".2
1 (Дочь Вяземского Полина (Прасковья), которой в это время было пятнадцать лет.)
2 ("Звенья", IX, стр. 406 - 407.)
Музыкальные вечера бывали и в австрийском посольстве, но, по-видимому, Дарья Федоровна особенно ценила собрания в доме графа Михаила Юрьевича Виельгорского, композитора-любителя и мецената музыки.1 В них участвовал и брат Виельгорского, известный виолончелист Матвей Юрьевич.
1 (О М. Ю. Ваельгорском скажем подробнее в последнем очерке.)
Русской музыкой графиня Фикельмон, по-видимому, не интересовалась. А. В. Флоровский, изучивший весь текст дневника, пишет: "Доносились ли до австрийской "посольши" и звуки русской песни? Не знаем. (...) Дневник за 1836 год, к сожалению, совершенно молчит о взволновавшей весь Петербург постановке "Жизни за царя" Глинки".1
1 (Флоровский. Дневник Фикельмон, стр. 72. Напомним, что в 1830 году графиня была уже очень больна.)
Дарья Федоровна, несомненно, любила театр - во всех его видах - лишь бы он был хорошим. В дневнике упоминаний о театральных представлениях мало, но все же они есть. Очень часто супруги Фикельмон бывали, например, на спектаклях французского театра на Каменном Острове, но там, по словам Фикельмон, был скорее салон, чем театр. Зато впоследствии, живя за границей, графиня нередко сообщает сестре о своих впечатлениях от ряда больших артистов. Великая трагическая актриса Рашель, певица Полина Виардо, которую до конца своих дней любил И. С. Тургенев, балерина Фанни Эльснер, знаменитый актер-негр Олдридж - всем им посвящены четкие, вдумчивые, порой любовные строки. Особенно увлекает Фикельмон прекрасная шведская певица Женни Линд, с которой она познакомилась в 1847 году, так же, как много раньше (в 1830 году) с Генриеттой Зонтаг, гастролировавшей тогда в Петербурге. "На-днях она (Линд) у нас обедала (...). Она так же восхитительна вблизи, как и на сцене: Ничто не сравнится с ее манерой быть простой и скромной, с ее вдохновенным взором, когда она говорит о своем искусстве, с этой прирожденной чистотой, которая окутывает ее словно ореолом".1
1 (Сони, стр. 108, запись 25 января 1847.)
Любовь к театру у графини Долли - лишь одно из проявлений ее глубокой любви ко всему прекрасному. Немолодую уже, болезненную женщину радостно волнуют и лунные ночи в Венеции, и дворец Лихтенштейнов, и картинные галереи Мюнхена и Дрездена, и голубые умные глаза все той же Женни Линд.
А в Петербургские годы она, хотя и не любит Севера, с восторгом пишет о красоте островов в весеннем уборе, о великолепии ночей над Невой... Тихая грусть чувствуется в ее описании тепличных цветов зимой: "В моей гостиной камелия в цвету, а на окне гиацинты и бедные тюльпаны, но у этих растений страдальческий, чахлый вид, и на них жалко смотреть" (14 декабря 1829 года).
Это искреннее и сильное чувство красоты и искание ее - одна из самых привлекательных душевных черт графини.
По-видимому, она сама отлично рисовала. Данных о ее работах пока очень мало. Мы помним, что при первом же знакомстве с Александром I графиня поднесла царю какие-то свои рисунки, которые он нашел "прелестными". А. В. Флоровский упоминает о том, что в дневнике Фикельмон имеются две зарисовки молодого персидского принца Хозрев-Мирзы, приезжавшего в Петербург принести извинения шаха по поводу убийства Грибоедова (как известно, Пушкин упоминает о встрече с принцем в главе первой "Путешествия в Арзрум").
В своей книге Н. Каухчишвили поместила фотокопии двух отлично нарисованных портретов (П. А. Вяземского и М. Ю. Виельгорского) с надписями, несомненно сделанными почерком Д. Ф. Фикельмон. Если это действительно ее работы, то, по мнению художников, которым я показал репродукции портретов, их автор обладал вполне профессиональным мастерством.
С юных лет Дарья Федоровна уделяла много времени чтению. Об ее интересе к историческим трудам мы уже говорили. Однако не меньше, если не больше, она любила художественную литературу. О том, что она читала до замужества, сведений нет, зато сохранился в ее бумагах ряд списков прочитанного в позднейшие годы и многочисленные выписки из самых разнообразных книг. По очень вероятному предположению Н. Каухчишвили, в первые годы после свадьбы граф Фикельмон руководил чтением своей совсем юной жены. Судя по ее заметкам, Долли Фикельмон, в противоположность своему современнику Евгению Онегину, не читала ни Гомера, ни Феокрита, хотя последний, на мой взгляд, созвучен ее душевному строю, не читала, по крайней мере, в юности, и глубокомысленного Адама Смита. Зато прочла много других книг, которые, можно поручиться, если и были известны кой-кому из ее русских ровесниц, то только понаслышке.
В неаполитанские годы она, по словам Н. Каухчишвили, "во первых, посвящает свое внимание классикам, вероятно, по совету мужа, который считал необходимым для жены посла историко-политическую подготовку, и читает поэтому Саллюстия, Цицерона, Вергилия, некоторые работы об Оттоманской империи; из современных историков она предпочитает Тьера и Тьерри. Затем она дополняет свои литературные познания, читая знаменитых итальянских писателей: Данте, Петрарку, Полициано, Манцони; немецких - Гете, Шиллера, Виланда, Клопштока, Новалиса, Жан-Поля, Э. Т. А. Гофмана. Она, наоборот, упоминает лишь немногих английских писателей, среди которых фигурируют только Мильтон и Байрон, в то время как французские авторы представляют чрезвычайно обширную картину: Фенелон, Ларошфуко, М-те де Жанлис, Шатобриан, М-те де Сталь, Ламартин, Виктор Гюго, Бенжамен Констан, Ламеннэ, Монталамбер и некоторые второстененные авторы".
В примечании Н. Каухчишвили упоминает о том, что этот список, несомненно,1не полон. Однако, если бы графиня Долли прочла лишь то, что перечислено в ее реестрах, пришлось бы сказать, что в нашу столицу Фикельмон поехала уже весьма начитанной в литературе главных европейских стран. С русскими писателями и в начале пребывания в Петербурге ей было о ком и о чем поговорить... за исключением только русской литературы, внучке Кутузова тогда, видимо, совершенно неизвестной.
1 (Архив братьев Тургеневых, вып. VI, стр. 139.)
Император Карл V как-то сказал, что, изучая новый язык, мы приобретаем и новую душу. Мне думается - не новую душу, а ключ к пониманию чужой психики. У графини Долли была целая связка таких ключей. Пользоваться ими она умела. В ее писаниях мы находим немало верных и глубоких отзывов о прочитанном, многое из того, что нравилось когда-то Долли Фикельмон, выдержало испытание временем.
Читала она большею частью по-французски, но нередко, как мы уже видели, и на других доступных ей европейских языках - немецком, английском и итальянском.
Одно из писем А. И. Тургенева1 позволяет думать, что графиня снабжала своих петербургских друзей французскими книгами, которые она, как жена посла, получала без цензуры.
Во время пребывания в Петербурге Дарья Федоровна, несомненно, прочла те произведения французских авторов, о которых Пушкин упоминает в письмах к ее матери, - стихотворения Сент-Бева и Виктора Гюго, знаменитую драму последнего - "Эрнани", постановка которой в Париже явилась окончательной победой романтической школы, а несколько позднее - не менее знаменитый "Собор Парижской богоматери". Очень внимательно отнеслась она к "Красному и черному" Стендаля. "Долли чувствует особое влечение к этому автору, который любит Италию больше всех других стран, и начинает в своей тетради заметки о Стендале эпиграфом "Увидеть Неаполь и после умереть".1 В 1831 - 1832 годах графиня прочла ряд романов Бальзака - "Деревенский врач", "Евгения Гранде", "Шагреневая кожа", "Сцены частной жизни". Тогда же, в 1832 году, ей очень понравился роман Альфонса Карра "Под липами", о котором с похвалой отозвался и Пушкин.
1 (Дневник Фикельмон, стр. 61.)
Все это, конечно, чтение весьма серьезное, но Дарья Федоровна не чуждалась и произведений чисто развлекательных, вроде Александра Дюма и даже Мариво.
Переписка с сестрой показывает, что и в немолодые годы Фикельмон следила за французской литературой внимательно, читала ее вдумчиво и любила побеседовать о своих впечатлениях. Из больших писателей она снова упоминает о Жорж Санд, Гюго, Бальзаке, Сент-Беве, Ламартине, Шатобриане. Интереснее всего ее, к сожалению, немногочисленные, замечания о французских писателях. Они обнаруживают у графини верный и тонкий литературный вкус. В своих суждениях Фикельмон весьма независима. Несомненно любя писателей-романтиков и, в частности, Гюго, она, например, очень неодобрительно относится к его драмам. "Что ты скажешь о "Burgraves"? "Какая великолепная нелепость",- говорит наш приятель Сюлливан. Но, кроме нескольких тирад, можно было бы сказать просто нелепость",- пишет она сестре 14 мая 1843 года. Современный читатель или зритель, если только он не француз, в данном случае, я думаю, охотно согласится с графиней. Быть может, чрезмерно строг, но меток ее отзыв о "Memoires d' Outre-Tombe" ("Замогильные записки") Шатобриана: "...есть там прелестные страницы, есть и интересные, но они тонут в океане тщеславия и непомерного самолюбия. Как жаль, что такой талант не сумел восторжествовать над самой жалкой мелочностью человеческого духа".1
1 (Сони, стр. 241.)
В этих довольно колких отзывах проявляется одна из характерных черт интеллекта графини Фикельмон - будучи человеком по преимуществу французской культуры, она нимало не усвоила французской психики. На литературные произведения она смотрит, не скажу русскими, но синтетически европейскими глазами.
Хотя, как мы знаем, Дарья Федоровна кроме французского знала еще три иностранных языка (английский, по-видимому, меньше других), и в ее неаполитанских реестpax значится целый ряд прочитанных ею немецких и итальянских авторов, в более поздние годы мы находим в ее дневнике и письмах лишь очень редкие и малосодержательные упоминания о нефранцузских писателях. Останавливаться на них я не буду. Упомяну только, что в библиотеке Пушкина нашлась принадлежавшая графине французская книга о Байроне1.
1 (Marquis de Salvo. Lord Byron en Italie et en Grece. (M аркиз де Сальво. Лорд Байрон в Италии и Греции). Londres, 1825. В кч.: Б. Л. Модзалевский. Библиотека А. С. Пушкина, СПб., 1910, стр. 329 - 330.)
О волевой стороне душевной природы Дарьи Федоровны мы до недавнего времени, собственно говоря, не знали ничего. Судя по отзывам друзей, можно было ее счесть за женщину, хотя и деятельную, но очень мягкую, мечтательную и, вероятно, склонную поддаваться чужим влияниям.
Опубликованные части дневника в этом отношении мало что дают. На французского путешественника Луи Симона, видевшего Долли, когда ей было лет 14 - 15, она, как мы знаем, произвела впечатление образцово послушной, благонравной девочки-подростка. Совсем другой она представляется нам спустя три-четыре года, судя по письмам Александра I. Волевая, напористая, порой вежливо-бесцеремонная и во всяком случае ничуть не боящаяся самодержца всероссийского, которому она отваживалась писать весьма сердитые письма... Чувствуется у нее еще и недостаток должной выдержки, которой жена посла впоследствии овладела в совершенстве.
Ее письма к мужу мы, к сожалению, знаем только по кратким выдержкам, приведенным Н. Каухчишвили. Поздние (1840 - 1854 гг.) письма к сестре, опубликованные Ф. де Сони, показывают, что, несмотря на свою несомненную доброту, графиня Долли, безусловно, обладала твердым, очень самостоятельным характером и, по-видимому, немалым личным мужеством. Внучка Кутузова не боялась ни царя, ни революционеров. Эти качества у нее были, конечно, и в молодые годы. Фикельмон сама сознает, что воля у нее есть, и очень ценит это качество в других. Во время революционных событий 1847 - 1848 гг. она то и дело хвалит тех государей, министров и генералов, которые, по ее мнению, обнаруживают решительность и твердость.
Сама она. насколько можно судить по живым и очень интересным описаниям революционных дней в Венеции и Вене, в трудные минуты держалась спокойно и мужественно. Не страшила ее и мысль о возможности лишиться всего, если революция победит: "Я заранее приучаю себя к этой мысли, и если когда-нибудь придется потерять все, кроме чести, я, по крайней мере, скажу это весело, и убежденность будет моим счастьем" (18.V.1848).
Казалось бы, что в Петербурге Дарья Федоровна могла быть довольна и своей судьбой и тем светским обществом, в котором она занимала такое блестящее положение. Молода, прекрасна собой. У нее любимая мать и любящий, заботливый муж. Он не богат, но по должности посла получает огромное содержание. Врагов у графини, кажется нет, друзей много - вплоть до коронованной подруги.
В петербургском дневнике графиня Фикельмон, действительно, не раз говорит о том, что она счастлива.
В начале первой зимы, проведенной в Петербурге, записывает: "Влияние севера на настроение человека должно быть очень сильным, потому что посреди такого счастливого существования, как мое, я испытываю постоянную потребность бороться со своей грустью и меланхолией" ( 1.Х.1829). Но в эту же зиму молодую мать трогательно радуют "светские успехи" совсем еще маленькой дочери: "Я еще очень глупа, когда вожу ее в гости, это так меня волнует и умиляет, что я сама не знаю, что делаю. Быть может, я привыкну к этому удовольствию" (6.11.1830). Через несколько месяцев она отмечает: "Годовщина моей свадьбы: девять лет постоянного счастия, без единого мучительного дня, без единого облака, в самом совершенном согласии. Действительно, это больше, чем многие женщины могли бы насчитать, соединяя вместе счастливые дни всей своей жизни (...). Меня печалит лишь одно обстоятельство, так как я убеждена, что Фикельмон не так совершенно счастлив как я, - трудно, чтобы два существа одновременно испытывали в такой мере чувство блаженства и уюта" (22.V - 3.VI.1830).
Приведем еще одну запись, сделанную по поводу наступления 1831 года: "...У счастливых сжимается сердце, они боятся, что счастие не продолжится, и в то же время у них глубокое чувство благодарности! Я принадлежу к этой категории, и мы с Фикельмоном сказали друг другу одно и то же: нам нечего желать, нечего просить для себя, кроме продолжения блага, которое нам ниспослал бог. Вот, однако, двое счастливцев посреди светского вихря!".1
1 (Запись 2. I. 1831. Вопреки первоначальному намерению графини Долли не делать из своего дневника сборника рассуждений, мы встречаем их на его страницах, как уже было упомянуто, довольно часто.)
Итак, в семейной жизни графиня Долли до конца счастлива или, по крайней мере, старается себя убедить в этом. И только ли себя - ведь дневник она оставила дочери... Чем больше в него вчитываешься, тем яснее чувствуешь, что это не "Journal intime", как говорят французы, а длинный ряд большею частью искренних, но всегда хорошо обдуманных записей. Калитку в свой духовный сад Долли Фикельмон только приотворяет.
Отношение к окружающему светскому обществу... Конечно, жена посла умела быть любезной и обходительной со всеми, с кем ей приходилось встречаться, независимо от того, нравились ей эти люди или нет. Привыкла держать себя соответствующим образом почти с детства. Можно сказать с уверенностью, что графу Фикельмону никогда не приходилось краснеть за жену.
Светскую жизнь она, несомненно, любила, но в то же время порой ясно чувствовала пустоту "тревоги пестрой и бесплодной". В такие дни хотелось ей чего-то иного...
Вернувшись с полюбившейся ей Черной Речки в город, графиня пишет 11 сентября 1830 года: "Я жалею о более независимой, более спокойной жизни на даче; здесь светские обязанности возобновляются в полной мере. Не понимаю почему бог сделал меня посольшей, я действительно не была рождена для этого".
В следующем году по тому же самому поводу Фикельмон пишет, вспоминая о даче: "Я виделась почти исключительно с людьми, которых мне хотелось видеть и не выходила из своей гостиной. Здесь (в Петербурге.- Н. Р.) все принимает более чопорные формы (...)" (14.IX.1831).
По мнению Н. Каухчишвили, которое кажется мне совершенно справедливым, "...муж понимал, что жена предпочитает спокойную жизнь и писал ей в 1834 году из Москвы в слегка ироническом тоне: "Я вижу тебя в твоем кабинете, одетой в кацавейку ("katzaveika"), бранящей погоду и все же опечаленной возвращением в город, где ты почти что перестаешь гулять".1
1 (Дневник Фикельмон, стр. 29.)
Да, немало двойственности было в натуре графини Долли... Двойственным было и ее отношение к светскому обществу. Пока не задумывалась над тем, что делает, она спокойно и весело блистала в гостиных и бальных залах Флоренции, Неаполя, Петербурга, Вены. Но задумывалась, по-видимому, нередко, и тогда на бумагу ложились грустные, а порой и гневные строки.
12 декабря 1831 года двадцатисемилетняя посольша пишет П. А. Вяземскому: "Как я ненавижу это суетное, легкомысленное, несправедливое, равнодушное создание, которое называется обществом! Как Адольф (ваш приемыш) 1 прав, когда он говорит, что "обществу нечего нас опасаться: оно так тяготеет над нами, его глухое влияние так могуче, что оно немедленно перерабатывает нас в общую форму".
1 (Герой одноименного романа Бенжамена Констана, переведенного Вяземским. Письмо до сих пор было известно только в переводе его сына Павла Петровича. Проверив перевод данного места по фотокопии подлинника, я сохранил его без изменений, как достаточно точный.)
В своем письме графиня Фикельмон почти точно процитировала соответствующие фразы Бенжамена Констана. Французский подлинник, несомненно, был у нее перед глазами. Однако взгляды Адольфа, которые она полностью разделяет, не были для нее новыми.1 Еще в тетради с записями, относящейся к 1822 - 1825 гг.2, она, комментируя мысли католического святого Francois de Sales3 (1567 - 1622), пишет: "...так быстро и так легко теряется привычка к ней (светской жизни.- Н. Р.), что одно это доказывает уже, насколько гомон большого света, вихрь обязанностей, которые не дают никакого удовлетворения,- насколько они противоречат, по существу, природе человек!. Мы нуждаемся без сомнения в обществе (...). Но общество могло бы быть таким простым, можно было бы дать это имя простым привычкам, кругу подходящих к вам людей; но у нас так сильно тяготение к рабству (несмотря на все, что об этом говорят), что мы его ищем повсюду!"
1 (...которые она полностью разделяет, не были для нее новыми. - Надо сказать, что конфликт Адольфа с обществом чисто личный - он любит женщину, с которой, по мнению окружающих, не должен связывать свою судьбу. В конце концов молодой человек приходит к убеждению, что "...можно несколько времени бороться с участью, но должно наконец покориться ей: законы общества сильнее воли человеческой, и чувства самые повелительные разбиваются о роковое могущество обстоятельств. Напрасно упорствуешь, советуешься с одним сердцем своим: рано или поздно мы осуждены внять рассудку". (Перевод П. Л. Вяземского).)
2 (Дневник Фикельмон, стр. 22.)
3 (Французкий епископ, проповедник и выдающийся писатель своего времени был канонизирован католической церковью в 1665 году.)
Так думала вместе с Francois de Sales философствующая посланница, когда ей было лет 18 - 21, а 22 марта 1851 года уже начинающая стареть Дарья Федоровна (ей 47 лет) пишет сестре почти то же самое, что в свое время Вяземскому:
"Свет, надо сказать, это соединение низостей и моральных ничтожеств, к которому проникаешься глубоким отвращением по мере того как становишься старше. Сама тогда удивляешься всем жертвам, которые еще ему приносишь".
Нет, эти ее мысли о светском обществе - не случайное настроение и не дань романтической литературе, которую Долли Фикельмон усердно читала.
Мы видели, что графиня Фикельмон разделяла многие мнения, убеждения и предубеждения окружавшей ее великосветской среды. До конца в ней она все-таки не растворилась. Была для этого духовно слишком значительным человеком. Со средними светскими людьми ей, вероятно, было тоскливо - по крайней мере, при долгом общении. Она, несомненно, любила свой уютный петербургский салон, но там собирались главным образом те, кого она в самом деле хотела видеть.
И еще одна мысль рождается, когда перечитываешь ее письма и дневники. Была, видимо, у этой красавицы и умницы какая-то чисто личная душевная трещина - одним недовольством обществом ее приступы грусти, мне думается, объяснить нельзя...1
1 (Н. Каухчишвили не согласна с моим предположением о наличии у Фикельмон некой "душевной трещины" (автор называет ее "душевным oдиссонансом"). По ее мнению, приступы тоски у графини Долли объясняются прежде всего ее болезненным состоянием, которое делало для нее порой мучительным исполнение светских обязанностей (Дневник, стр. 28 - 29). Однако нервное заболевание Дарьи Федоровны развилось значительно позднее - в дневниках 1829 - 1831 гг. она лишь изредка упоминает о головных болях и с увлечением рассказывает, например, об общественных маскарадах в доме Энгельгардта, на которые она совершенно не обязана была ездить.)
Но кто же, в конце концов, эта внучка Кутузова, приятельница Пушкина, австрийская подданная, влюбленная в Италию, - русская или иностранка?
Ответить на этот вопрос не очень легко. Мы уже знаем, что, живя долгое время в Италии, Фикельмон забыла русский язык. Приехав в 1829 году в Петербург, посольша, по крайней мере первое время, говорить по-русски не могла. Даже митрополиту Филарету, который, по желанию матери, стал ее духовным наставником, она отвечала по-французски на его русские вопросы и поучения. Друг друга собеседники, очевидно, понимали (запись 15.X.1829). Мы знаем также, что в 1830 году известный литератор О. М. Сомов давал графу и графине уроки русского языка.
Таким образом, на мой взгляд, причину ее душевного состояния в эти годы надо искать в чем-то другом.
На Россию Дарья Федоровна тогда, несомненно, смотрела глазами вдумчивой иностранки. О петербургской публике (не о "простом народе" - его туда не допускали), которую она наблюдала в загородных парках, графиня писала: "У толпы всегда такой вид, точно она развлекается не по собственному желанию, а по приказанию или по обязанности" (29.VIII.1832). Не нравилось ей и времяпрепровождение русского светского общества. Терпеть не могла столь любимых тогда карт, которые "здесь лишают общество движения и веселья". Огорчала ее пустота светских женщин, "созданий из газа, цветов и лент". Скучными и всего боящимися казались ей русские девицы: "Похоже на то, что они считают беседу светским грехом, так как в этом отношении строгость у них поучительная, что придает гостиным печальный и совершенно бесцветный оттенок" (21.VII.1832)1.
1 (Флоровский. Дневник Фикельмон, стр, 69.)
Добавим от себя: все в николаевском Петербурге иначе, чем в милой сердцу Долли Фикельмон Италии, хотя светской пустоты и там, конечно, было немало.
Есть в дневнике Фикельмон и более глубокие замечания о русском "большом свете" тридцатых годов. Несмотря на свои монархические убеждения и личную близость с царской семьей, графиня и о ней порой отзывается довольно резко. Побывав на одном из царских балов, она пишет о том, что всюду были цветы, но и они казались ей ненастоящими, и все там ненастоящее (31.1.1832).
В данном случае согласимся с графиней Долли - почти не зная России, наблюдательная женщина умела порой видеть то, чего не замечали вполне русские гости царя.
Будучи дипломатически неприкосновенной, она могла безбоязненно записывать в свои петербургские Тетради все, что хотела. Но нет в ее дневнике ни слова о том, чего она не могла не знать, - о забивании людей насмерть шпицрутенами, о торговле крепостными, о многих других ужасах николаевской России, которых на Западе всe же давно не было. Эти русские дела, видимо, оставались вне круга непосредственных наблюдений Дарьи Федоровны, Ничего она не говорит и о декабристах, хотя была знакома со многими родственниками и друзьями сибирских узников.
Несмотря на постоянное общение в Петербурге с нашими писателями, ни в дневнике, ни в письмах упоминаний о русской литературе почти нет. Можно только предполагать, что Фикельмон все же прочла "Клеветникам России", "Бородинскую годовщину", уже упомянутое письмо Чаадаева1 и какую-то, видимо, русскую, биографию Кутузова.
1 (Возможно, впрочем, что графиня прочла только опубликованный ранее французский текст письма, если это издание действительно состоялось.)
О русской музыке, как я уже упоминал, у нее нет ни слова.
Итак, почти иностранка, весьма равнодушная к русским делам?
Этого сказать нельзя - сложная была натура у Дарьи Федоровны Фикельмон и сложные взгляды. Нельзя прежде всего забывать, что до самой смерти матери она почти все время жила вместе с ней, а Елизавета Михайловна, как мы знаем, любила родину горячо. Несомненным руссофилом был и муж графини. Можно думать, что и годы, проведенные в Петербурге, все же заставили ее в какой-то мере снова обрусеть.
Из дневника и других источников мы узнаем, например, что в течение ряда лет она вместе с матерью бывала в русском театре и восхищалась игрой знаменитого Каратыгина в ролях Ермака (1829) и Отелло (1836). Отмечает ,Фикельмон и открытие Александрийского театра в 1832 году. О "Жизни за царя" ("Иване Сусанине"), поставленной в 1836 году, она не упоминает, но за этот особенно интересный для нас год, когда началась последняя драма Пушкина, записей в дневнике из-за болезни графини, к сожалению, вообще почти нет.
Дарья Федоровна внимательно читает сочинения иностранцев о России и принимает близко к сердцу их зачастую легкомысленные и лживые повествования: "...они возбуждают во мне бешенство против тех, которые их пишут, не потрудившись даже собрать сведений" (15.XII. 1840).1 Книгу Кюстина "Россия в 1839 г." графиня и ее муж читают "с удивлением и сожалением". По мнению Д. Ф. Фикельмон, "невозможно в одной книге вместить столько желчи и горечи". Однако этого автора легкомысленным она не считает: "...он строг, часто несправедлив, склонен к преувеличению, непоследователен и недоброжелателен, но правда там есть" (28.VI.1843).2 Надо сказать, что это, несомненно, собственные мысли Дарьи Федоровны - отзыв ее мужа о книге французского аристократа, как мы знаем, гораздо резче, хотя и он не отвергает ее целиком.
1 (Сони, стр. 11.)
2 (Там же, стр. 50.)
В русско-турецкую кампанию 1829 года наши боевые успехи - взятие Эрзерума и Адрианополя, подписание там победоносного мира радовали графиню Долли во всяком случае не как иностранку. Яснее же всего ее русские чувства проявились в пожилые годы, во время Восточной войны и Крымской кампании, хотя Дарья Федоровна уже давно и окончательно обосновалась за границей. Узнав об объявлении войны Турции, она пишет сестре: "...русская часть моего полурусского, полуавстрийского сердца в большом волнении" (20.Х.1853)1, и несколько позже: "Мы узнали о победе русского флота при Синопе, поздравляю тебя и не могу тебе сказать, какую радость доставила мне эта новость". Крайне враждебная позиция Австрии по отношению к России во время Восточной войны и Крымской кампании заставляют ее скорбеть: "...когда у тебя два отечества, их любишь, как отца и мать, и глубоко огорчаешься, если они не могут действовать вместе". За ходом войны Фикельмон следит очень внимательно, постоянно смотрит на карту. Приготовления союзников ее глубоко волнуют. "Русская половина сердца" все больше и больше дает себя знать. "Я читаю с ужасом и в то же время и с интересом о громадных приготовлениях Англии и Франции, и этот колоссальный флот для Балтийского моря стал моим кошмаром. Я уже боюсь за мой бедный Ревель".
1 (Сони, стр. 434.)
Неудачи русских глубоко огорчают Дарью Федоровну. В одном из последних известных нам писем 1854 года мы уже ясно слышим голос русской патриотки, внучки Кутузова: "Третьего дня мы получили ложное известие о взятии Севастополя и были от него больны, но вчера известие было опровергнуто. Все мои мысли с вами с тех пор, как враг на русской земле" (5.Х.1854).1
1 (Там же, стр. 478.)
Пусть читатель сам решит, можно ли считать графиню Фикельмон иностранкой...
И, думаю, он согласится со мной, что среди множества женщин, которых знал Пушкин, она была одной из самых незаурядных.
Сложна и полна противоречий ее натура. Она добра, но способна остро ненавидеть тех, кого считает врагами дорогого ей общественного строя. Она умеет наблюдать, но порой не замечает того, что видят люди гораздо менее наблюдательные. Женщина выдающегося ума, случается, пишет вещи далеко не умные. Патриотка двух отечеств, но прежде всего все-таки русская, очень плохо справляется с русским языком. Дама "большого света" вдруг начинает грустно и гневно бранить то общество, в котором ее положение так блестяще. Все у нее, кажется, есть, - большего желать нечего, но недовольна она, мечется, не находит себе покоя... Тесно ей в великосветской оранжерее, в которую Дарья Федоровна сама себя заперла.
Но, несмотря на все ее недостатки, и через сто лет, читая ее писания и воспоминания о ней, нельзя не почувствовать очарования этой женщины1.
1 (Характерно, что работники Государственного архива в Дечине, где хранится фонд Фикельмонов, и сейчас зовут ее "наша Доллинька".)
|
ПОИСК:
|
© A-S-PUSHKIN.RU, 2010-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'