
Д. Ф. Фикельмон в жизни и творчестве Пушкина
I
Графиня Фикельмон, несомненно, была женщиной выдающейся. По силе ума и широте интересов мало кто из приятельниц Пушкина мог с ней сравниться. Обладала она и немалой литературной культурой. Сама, как показывают ее дневник и письма, владела пером.
Можно таким образом считать, что Дарья Федоровна была душевно подготовлена к знакомству с великим поэтом. Неизвестно, однако, читала ли она уже Пушкина до приезда в Петербург. Вернее все же считать, что только слышала о нем. Жила ведь душа в душу с матерью, живо и горячо интересовавшейся отечественной литературой. Однако, проведя много лет в Италии, графиня Долли, как мы знаем, почти забыла родной язык и вообще оторвалась от России, которую и в детстве знала очень мало. В ее известных нам писаниях флорентийского и неаполитанского времени ни о Пушкине ни о других русских писателях не говорится ни слова.
Елизавета Михайловна Хитрово со старшей дочерью вернулись в Россию скорее всего в начале 1826 года1 и, вероятно, как я уже упомянул, летом следующего года началось ее личное знакомство с поэтом. Приехав в Петербург, Дарья Федоровна не могла не узнать, хотя бы отчасти, какое место Пушкин вскоре занял в душевном мире ее матери. По словам Н. В. Измайлова, "Она всею душою отдалась поэту, перенесла на него во всей полноте ту "неизменную, твердую, безусловную дружбу, возвышающуюся до доблести", о которой говорит князь Вяземский. Конечно, здесь была не только дружба - здесь было и поклонение великому поэту, славе и гордости России, со стороны патриотически настроенной наследницы Кутузова, и материнская заботливость о бурном, порывистом, неустоявшемся поэте, бывшем на шестнадцать лет моложе ее, и, наконец,- страстная, глубокая, чисто эмоциональная влюбленность в него, как в человека. Последнее - по крайней мере в первые годы - господствовало над остальным"2.
1 (См. очерк "Фикельмоны", стр. 104.)
2 (Письма к Хитрово, стр. 173 - 174.)
Есть основание думать, что молодой одинокий поэт не сразу отверг эту страсть стареющей женщины. Впоследствии, до самой смерти, он ценил в Елизавете Михайловне вдумчивого и верного друга, одного из самых верных своих друзей.
В 1925 году в бывшем дворце Юсуповых в Ленинграде, том самом, где девятью годами раньше убили Распутина, было найдено двадцать шесть писем Пушкина к Хитрово и одно письмо к графине Е. Ф. Тизенгаузен. Эта замечательная находка показала, как высоко он ценил общение с матерью Фикельмон. В своих письмах к ней поэт обсуждает ряд волновавших его политических и общественных вопросов, делится литературными новостями, откровенно сообщает о своих душевных переживаниях.
Но спокойные, дружеские отношения Пушкина и Хитрово установились уже после его женитьбы. Приехав с мужем в Петербург летом 1829 года, графиня Долли застала еще тот тягостный для поэта период, когда Елизавета Михайловна была в него влюблена и добивалась взаимности.
Останавливаться на этом романе мы не будем, но упомянуть о нем нужно, чтобы яснее представить себе обстановку, в которой началось знакомство Пушкина и Долли Фикельмон.
Благодаря опубликованию дневника графини сейчас можно значительно уточнить время ее первой встречи с поэтом. До относительно недавнего времени пушкинисты считали, что чета Фикельмон прибыла в Петербург во второй половине января 1829 года, а знакомство Пушкина с женой австрийского посла началось еще до его отъезда в Москву (8 марта) и оттуда на Кавказ, то есть между концом января и началом марта. Однако графини в это время еще не было в Петербурге. В январе состоялось лишь назначение Фикельмона, а приехал с женой он из-за границы в Варшаву, как уже было упомянуто, лишь в ночь с 30 июня на 1 июля. Пушкин в это время был в только что взятом Эрзеруме. В столицу он вернулся в начале ноября и, вероятно, вскоре же познакомился с Дарьей Федоровной. Возможно, что встреча произошла в салоне ее матери, которая в это время жила отдельно от дочери-посольши.
Исследователи считают, что самое раннее упоминание фамилии Фикельмон имеется у Пушкина в т. н. "арзрумской" рабочей тетради1. По-видимому, это список лиц (на французском языке), к которым следует съездить, и т. п.: "Гурьев (вероятно, Александр Дмитриевич, сенатор), Ланжерон (генерал граф Александр Федорович), князь С. Голицын (Сергей Михайлович, попечитель Московского учебного округа), Фикельмон".
1 (Ее шифр: ИРЛИ (ЛД) 841, ранее ЛБ № 2382.)
Судя по положению записи в тетради, пушкинисты относят этот список к ноябрю-декабрю 1829 года. По-видимому, Пушкин в это время еще не знал правильной транскрипции фамилии графа Шарля-Луи и писал ее "Fickelmont". Это подтверждало бы отнесение списка к самому началу знакомства. Возникает, однако, значительное затруднение - граф Ланжерон приехал в Петербург лишь в начале 1831 года.1 Таким образом, либо датировка записи неверна, либо Ланжерон приезжал в Петербург неоднократно (в 1830 году он некоторое время жил в Москве).2 Мне кажется более вероятным последнее предположение.
1 (Письма к Хитрово, стр. 61.)
2 (Там же.)
В другом списке лиц в той же тетради на первом месте стоит: "Дворцовая набережная: Австрийскому посланнику - 2". По весьма правдоподобному предположению М. А. Цявловского этот второй список заключает фамилии лиц, которым Пушкин наметил послать свои визитные карточки к новому 1830 году. Он датируется, по-видимому, между 23 - 24 декабря 1829 года и 7 января 1830 года.1 Прибавим лишь, что, если речь действительно идет о визитных карточках, то они по обычаю были разосланы за несколько дней перед Новым годом.
1 (М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский. Т. Г. 3енгер - Цявловская. Рукою Пушкина. М.-Л., 1935, стр. 322 - 323.)
Во всяком случае, в начале декабря 1829 года Пушкин, думается, уже был знаком с супругами Фикельмон. Об этом свидетельствует запись в дневнике графини от 11 декабря этого года. Текст ее, сверенный с фотокопией соответствующей страницы,1 привожу в более полном виде, чем это сделал А. В. Флоровский, так как опубликованная им выдержка, взятая вне контекста, как мне кажется, не вполне точно передает мысли автора дневника: "Вчера 10 у нас был второй большой дипломатический обед. Теперь у нас всегда бывает довольно много гостей на наших вечерних приемах по понедельникам, четвергам и субботам, но петербургское общество мне еще не нравится. Пушкин, писатель, ведет беседу очаровательным образом - без претензий, с увлечением и огнем; невозможно быть более некрасивым - это смесь наружности обезьяны и тигра; он происходит от африканских предков - в цвете его лица заметна еще некоторая чернота и есть что-то дикое в его взгляде.2
1 (Приношу благодарность директору Архивного управления Чехословакии инженеру Ярославу Свобода (Прага), приславшему мне, по просьбе Сильвии Островской, отличный микрофильм части дневника Фикельмон.)
2 (Курсивом напечатана часть записи, опубликованная А. В. Флоровским и переведенная Н. В. Измайловым. (Н. В. Измайлов. Пушкин в переписке и дневниках современников. Пушкин в дневнике гр. Д. Ф. Фикельмон. "Врем. П. К.", М.-Л., 1963, стр. 33.
Дальнейшие упоминания о Пушкине в дневнике Д. Ф. Фикельмон приводятся в переводе Н. В. Измайлова. )
Сейчас один из самых обычных разговоров в салонах это спор о двойном ребенке, родившемся в Сардинии и умершем в Париже в возрасте 9 месяцев...".
(Посетители салонов спорили о том, была ли у сросшихся девочек-близнецов Риты и Христины одна душа или две).
На мой взгляд, нет оснований считать, что Пушкин присутствовал на обеде, который Фикельмоны дали петербургскому дипломатическому корпусу, тем более, что в это время он был еще лицом совершенно не официальным. Судя по контексту записи, отзыв о его очаровательной манере говорить относится ко времени, когда поэт бывал на обычных вечерних приемах у Фикельмонов. Дат их мы не знаем, но, во всяком случае, по существовавшим и тогда и позже светским обычаям, прежде чем начать бывать в доме, поэт должен был сделать Фикельмонам дневной визит.
По поводу первой записи графини Долли о Пушкине хочется привести несколько соображений.
"Смесь наружности обезьяны и тигра..." - Дарья Федоровна, несомненно, не сама додумалась до этой экзотической характеристики. Так поэт однажды назвал себя сам в шуточном протоколе собрания товарищей по Царскосельскому лицею 19 октября 1828 года. Возможно, что это было его давнишнее прозвище, хорошо известное друзьям через них дошедшее до графини.
Надо сказать, что Фикельмон, по-видимому, преувеличивала некрасивость Пушкина. Некрасивым он был - большинство портретов, можно думать, приукрашены, но голубые глаза поэта были подлинно прекрасны1.
1 (Любопытно мнение о наружности Пушкина В. И. Анненковой, урожденной Бухариной. Она считала, что поэт "изысканно и очаровательно некрасив").
Однако Дарья Федоровна, резко отозвавшись о наружности Пушкина, верно почувствовала очарование его блестящей беседы. Брат поэта, Лев Сергеевич, говорил, что его разговоры с женщинами "едва ли не пленительнее его стихов"1. Хотелось бы нам знать, о чем же Пушкин говорил на приемах у Фикельмонов с таким увлечением и огнем? К сожалению, графиня не записывала его слов. Многое, очень многое могла она сохранить для истории из бесед поэта, встречаясь с ним в течение семи с лишним лет. Могла, но не сохранила...
1 (П. И. Бартенев. Рецензия на книгу F. de Sоnis. "Русский архив", 1911, сентябрь, 2-я обложка.)
Тот факт, что Пушкин познакомился с Фикельмон лишь в ноябре 1829 года, позволяет думать, что между ними быстро установились дружеские отношения.
Давно уже была найдена недатированная записка Дарьи Федоровны к Пушкину, которую предположительно относили к зиме 1829 - 1830 года. Графиня писала:
"Решено, что мы отправимся в нашу маскированную поездку завтра вечером. Мы соберемся в 9 часов у матушки. Приезжайте туда с черным домино и с черной маской. Нам не потребуется ваш экипаж, но нужен будет ваш слуга - потому что наших могут узнать. Мы рассчитываем на ваше остроумие, дорогой Пушкин, чтобы все это оживить. Вы поужинаете затем у меня, и я еще раз вас поблагодарю. Д. Фикельмон.
Суббота.
Если вы захотите, мама приготовит вам ваше домино".
В петербургском дневнике дата этой поездки приведена точно. 13 января 1830 года Дарья Федоровна записывает:
"Вчера 12-го мы доставили себе удовольствие поехать в домино и масках по разным домам. Нас было восемь маменька, Катрин (гр. Е. Ф. Тизенгаузен), г-жа Мейендорф и я, Геккерн, Пушкин, Скарятин (вероятно, Григорий Яковлевич) и Фриц (Лихтенштейн, сотрудник австримского посольства). Мы побывали у английской посольши (леди Хейтсбери), у Лудольфов (семейство посланника Обеих Сицилий) и у Олениных (А. Н. и Е. М.). Мы всюду очень позабавились, хотя маменька и Пушкин были всюду тотчас узнаны, и вернулись ужинать к нам. Был прием в Эрмитаже, но послы были там без своих жен".
Ряженые, надо думать, по тогдашнему обычаю, ехали все вместе в больших санях-розвальнях. Присмотримся к ним поближе - попробуем узнать на этом примере, с кем Пушкин встречался у австрийского посла.
Трех дам - Елизавету Михайловну и ее дочерей мы знаем достаточно. С фамилией госпожи Мейендорф мы встретились уже в одной из записок графини Долли к Вяземскому. В последних числах апреля 1830 года она приглашала Петра Андреевича прийти вечером, чтобы попрощаться с Мейендорф, уезжавшей вместе с мужем в Париж. С баронессой Елизаветой Васильевной, урожденной д'Оггер (d'Haugeur), Фикельмон была знакома во всяком случае менее года, но, судя по многочисленным упоминаниям в дневнике, несомненно полюбила эту привлекательную, жизнерадостную женщину.
Перейдем к мужчинам. В зимнюю маскарадную ночь з обществе молодых красавиц-графинь поэт, вероятно, был в ударе. Смеялся сам и заставлял смеяться других. Смеялся, конечно, и его превосходительство голландский посланник барон Луи-Якоб-Теодор ван Геккерн де Беверваард, тот самый Геккерн1, который впоследствии сыграл до сих пор не ясную, но несомненно гнусную роль в последней драме поэта. Любопытно, что, познакомившись с ним, Фикельмон со всегдашней своей проницательностью буквально через несколько дней после приезда в Петербург (8.VII.1829) отзывается о Геккерне более чем отрицательно: "...лицо хитрое, фальшивое, мало симпатичное; здесь его считают шпионом г-на Нессельрода - такое предположение лучше всего определяет эту личность и ее характер". Почему же, однако, через несколько месяцев "личность" попала в эти веселые сани? Сумела, видимо, понемногу понравиться своим остроумием, умением болтать с дамами, житейской уверенной ловкостью. Через неделю после поездки (22.1.30) графиня записала: "...я очень привыкла к его обществу и нахожу его остроумным и занятным; не могу скрыть от себя, что он зол, - по крайней мере в речах, но я желала бы и надеюсь, что мнение света несправедливо к его характеру".
1 (Я пользуюсь транскрипцией "Геккерн", принятой в настоящее время Пушкинским Домом, сохраняя традиционное написание "Геккерен" в цитатах.)
В дневнике за 1830 год есть и другие записи, благоприятные для голландского посланника. 9 февраля, например, Фикельмон на балу у холостяка Геккерна принимает в качестве хозяйки его гостей, в числе которых были император и императрица. Однако в скором времени она, как можно думать, снова переменила свое отношение к барону Луи. В 1830 году он - желанный гость ее салона, а начиная со следующего года и вплоть до гибели Пушкина (за исключением одного малозначительного упоминания в 1832 году) его фамилия совершенно исчезает со страниц дневника графини. Напомним, кстати, что голландский посланник, которого через немного лет некоторые называли "старик Геккерен", в действительности совсем еще не стар: он всего на восемь лет старше Пушкина.
Об атташе австрийского посольства князе Фрице Лихтенштейне (1802 - 1872), ставшем в Петербурге как бы членом семьи Фикельмонов, можно только сказать, что Пушкин встречался с ним очень недолго - 23 марта 1830 года князь уехал в Австрию. Все же следовало бы когда-нибудь взглянуть на бумаги его потомков. Может быть, молодой дипломат и описал свои, вероятно, неоднократные встречи с русским поэтом1.
1 (Пушкин, несомненно, встречался и еще с одним чиновником австрийского посольства князем Францем Лобковицем, молодым еще человеком (родился в 1800 году), несколько прикосновенным к литературе. Опубликованные части дневника показывают, что Лобковиц, приехав в Петербург в августе 1829 года, во всяком случае, продолжал служить в посольстве до конца 1832 года.
Незадолго до конца войны я познакомился в Праге с правнуком его брата, князем Яном Лобковицем, который обещал мне со временем показать хранившиеся у него бумаги дипломата. К сожалению, замок князя Яна был реквизирован гитлеровцами. Приходилось ждать окончания военных действий, и этот источник, быть может, также интересный, остался для меня недоступным.) .
Остается офицер Кавалергардского полка Скарятин - Григорий Яковлевич или его брат Федор, - во всяком случае, один из сыновей одного из убийц отца царствующего императора. Надо сказать, что и сам цареубийца, Яков Федорович, шарфом которого задушили Павла, бывал у австрийского посла. Как рассказывает Пушкин в своем дневнике, в 1834 году на балу у Фикельмонов Николай I "застал наставника своего сына (Жуковского) дружелюбно беседующего с убийцей его отца". Посол не знал о прошлом Якова Федоровича Скарятина и удивился странностям русского общества (запись 8 марта):
Григорий Скарятин много лет был близким другом Дарьи Федоровны и ее сестры.
Вернемся, однако, к розвальням с веселой великосветской компанией, которые подъезжают то к одному, то к другому особняку. Господ мы теперь знаем, но кроме них в санях есть еще двое простых людей - неведомый нам возница и слуга Пушкина. Вероятно, это его неизменный Никита Тимофеевич Козлов, который носил когда-то на руках малютку Александра, был при поэте в его южной и северной ссылках служил ему в Петербурге. Но только однажды, в Кишиневе, поэт мельком упомянул имя своего преданного слуги:
Дай, Никита, мне одеться: В митрополии звонят.
В посольские особняки мы вслед за ряжеными не пойдем, но к Олениным заглянем. Речь ведь идет о президенте Академии художеств и директоре императорской Публичной библиотеки Алексее Николаевиче Оленине и его жене Елизавете Марковне. В их гостеприимном доме Пушкин часто бывал в послелицейские годы. Оленин, обладавший большими связями, вместе с Жуковским хлопотал за Пушкина, когда в 1820 году ему грозила ссылка в Сибирь. В это время Анна Оленина, младшая дочь Алексея Николаевича, была двенадцатилетней девочкой. Проведя семь лет в изгнании, поэт вернулся наконец в столицу и осенью или ранней зимой 1827 года увидел Анну Алексеевну уже девятнадцатилетней девушкой. Пушкин влюбился в нее. В 1828 году он создал целый цикл стихов, связанный с Олениной. О ее глазах писал:
Потупит их с улыбкой Леля - В них скромных граций торжество; Поднимет- ангел Рафаэля Так созерцает божество.
Летом 1828 года Пушкин сделал предложение Анне Алексеевне, которая ценила его гений, но к Пушкину-человеку, как кажется, была равнодушна. Подробностей этой попытки мы не знаем. Окончилась она неудачей - предложение было отвергнуто родителями, знавшими, что в это время над Пушкиным был учрежден секретный надзор полиции. Видный сановник, член Государственного Совета, Оленин не пожелал выдать дочь за "неблагонадежного сочинителя".
Следовало ожидать, что после неудачного сватовства Пушкин по существовавшему и тогда и много позже обычаю перестанет бывать у Олениных. Кроме того, по-видимому, в 1829 году до него дошел какой-то обидный отзыв Анны Алексеевны, самолюбие поэта, по крайней мере на время, было задето, и вот в черновиках восьмой главы "Евгения Онегина", написанных в декабре этого года, Оленина выведена под именем Лизы Лосиной, при появлении которой Онегин приходит в ужас. Она:
Уж так жеманна, так мала, Так неопрятна, так писклива, Что поневоле каждый гость Предполагал в ней ум и злость...
Сам Оленин в это время для Пушкина:
О двух ногах нулек горбатый...
При таких настроениях поэта совсем уже нельзя было предполагать, что 12 января 1830 года он в домино и маске войдет в дом Алексея Николаевича. Своей, несомненно, точной записью Фикельмон задала нам нелегкую загадку. Впрочем, разгадка, быть может, в том и заключается, что Пушкин был замаскирован. Отказываться от интересной поездки не хотелось. Надеялся, что не узнают, но ошибся.
Тому, что старых знакомых - Елизавету Михайловну и Пушкина - тотчас узнали в доме Олениных, удивляться не приходится. Что касается Хейтсбери и Лудольфов, то, очевидно, в начале 1830 года поэт уже был хорошо знаком с семьями этих дипломатов, о чем раньше сведений не было1.
1 (В публикации А. В. Флоровского, как показывает фотокопия соответствующей страницы дневника, дважды повторенное слово "partout" (всюду) было прочитано неправильно, что несколько изменило смысл отрывка. Можно было предположить, что Пушкина опознали только у Олениных, что я и сделал в книге "Если заговорят портреты".)
Потом вся компания ужинала в австрийском посольстве. Хозяин дома отсутствовал,- он в тот вечер был в гостях у царя. Не будем гадать о том, испортилось ли настроение поэта от того, что его узнали, где не надо... В малой столовой посольства, наверное, снова было много шуток и смеха и, конечно, немало шампанского.
Вдовы Клико или Моэта Благословенное вино ...
в принятых тогда узких бокалах искрилось, пенилось, помогало забыть разные житейские неприятности. Блестели чудесные бархатистые глаза Фикельмон. Ничто не говорит о том, что поэт увлекался ею в это время, но не любоваться умной красавицей он вряд ли мог.
Итак, через два месяца после начала знакомства Пушкин для графини Долли уже свой человек. Очевидно, ничего неудобного для себя она в этом не видит, хотя молодой супруге пожилого уже посла великой державы, несомненно, приходилось очень и очень осторожно выбирать своих друзей. В 1829 году, не забудем, Дарье Федоровне всего 25 лет, ее мужу уже 52. В наше время это еще очень немного, но сто с лишним лет назад на возраст смотрели иначе.
Быстрому сближению Фикельмон с Пушкиным удивляться не приходится. Для графини он прежде всего давнишний приятель ее матери. Замечала ли Долли Фикельмон, что Елизавета Михайловна трогательно и смешно влюблена в Пушкина? Вероятно, старалась не замечать. Она ведь любила мать...
В жизни поэта к тому же вскоре наступил перелом. Зиму 1829 - 1830, свою последнюю холостую зиму, он проводил шумно, рассеянно и, должно быть, не очень благоразумно. Вероятно, Дарья Федоровна, хотя бы отчасти, разделяла мнение матери, писавшей Пушкину 20 марта 1830 года: "Как можно такую прекрасную жизнь бросать за окошко".
Но письмо, из которого приведены эти строки, было отправлено в Москву, куда Пушкин уехал двенадцатого марта именно с целью упорядочить свою мятущуюся жизнь. Шестого апреля, в первый день пасхи, судьба его решилась. Поэт вторично сделал предложение Наталье Николаевне Гончаровой, и на этот раз оно было принято.
Печатное извещение о помолвке было разослано родным и знакомым лишь в начале следующего месяца. Оно гласило:
"Николай Афонасьевич Наталья Николаевна (так!) Гончаровы, имеют честь объявить о помолвке дочери своей Натальи Николаевны с Александром Сергеевичем Пушкиным сего Маня 6 дня 1830 года".
Странная ошибка в отчестве матери невесты, Натальи Ивановны, урожденной Загряжской, осталась неисправленной и в хранящемся в Пушкинском Доме экземпляре, который поэт послал своему Другу П. В. Нащокину с шуточной надписью на обороте:
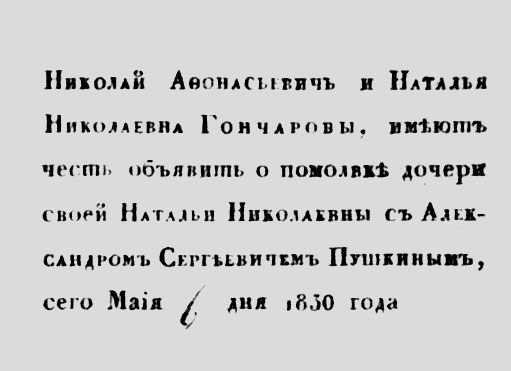
Извещение о помолвке Н. Н. Гончаровой с А. С. Пушкиным
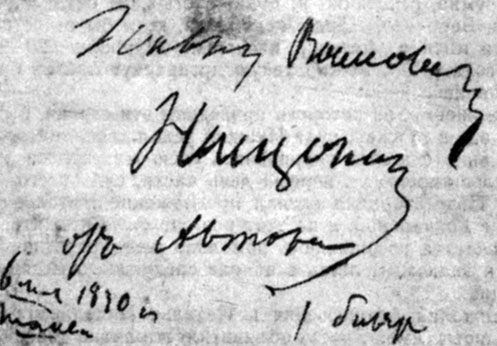
Надпись Пушкина на обороте извещения о помолвке, присланного поэтом П. В. Нащокину
Павлу Воиновичу
Нащокину
от Автора
6 мая 1830 г.
Москва
Письмо Пушкина к графине Фикельмон, копию которого мне некогда прислал князь Клярии-Альдринген, помечено 25 апреля. Оно является ответом на не дошедшее до нас письмо графини Долли к поэту. Как светский человек Пушкин на письмо дамы, можно думать, ответил в тот же день или на следующий. Письма из Петербурга в Москву обычно получались на четвертый-пятый день. Таким образом, письмо графини, вероятно, было отправлено 19 или 20 апреля. В это время в столице много говорили о предстоящей женитьбе Пушкина, но кроме родителей поэта и шефа корпуса жандармов генерала А. X. Бенкендорфа, которому 16 апреля он сообщил в официальном письме о состоявшейся помолвке, прося в то же время "сохранить мое обращение к вам в тайне", - кроме них, в эти дни, по-видимому, никто в Петербурге еще ничего не знал наверное.
Некоторые, в том числе один из ближайших друзей поэта, П. А. Вяземский, долго не хотели верить, что Пушкин женится. Еще 27 марта1 Петр Андреевич, сообщая жене, что он в этот день обедал вместе с Е. М. Хитрово у Фикельмонов, прибавляет в виде шутки: "Все у меня спрашивают: правда ли, что Пушкин женится? В кого он теперь влюблен, между прочим? Насчитай мне главнейших".
1 ("Звенья", VI, стр. 220.)
В недатированном письме к княгине Вере Федоровне он называет сообщение о женитьбе поэта мистификацией. 21 апреля снова пишет ей же: "Ты все вздор мне пишешь о женитьбе Пушкина; он и не думает жениться, что за продолжительная мистификация? Повторяю, я не Елиза"1. Только 26 апреля, побывав на обеде у родителей поэта, он убеждается в том, что Пушкин действительно женится: "Нет, ты меня не обманывала, мы сегодня на обеде у Сергея Львовича выпили две бутылки шампанского, а у него по-пустому пить двух бутылок не будут. Мы пили здоровье женихов".2
1 (Там же, стр. 239 - 240.)
2 (Там же, стр. 244.)
Эта эпистолярная летопись мартовских и апрельских дней 1830 года показывает, что, отправляя свое пись: о, графиня Долли, несомненно, знала - и от матери и от друзей поэта (хотя бы от того же Вяземского) о том, что Пушкин собирается жениться, но неизвестно пока, верно это или нет.
Обратимся теперь к ответному письму поэта. Я остановлюсь на нем подробнее, так как это письмо, опубликованное впервые в 1949 году1 по не вполне точной копии князя Кляри, до настоящего времени остается малоизученным. В 1950 году Д. Благой повторил публикацию, сопроводив ее фотокопией подлинника, по-прежнему хранящегося в Чехословакии, и кратким комментарием, который, однако, лишь в небольшой части посвящен самому письму2. В современных изданиях произведений Пушкина оно публикуется лишь с очень краткими примечаниями.
1 (Акад., XVI, стр. 429-430.)
2 (Д. Благой. Новое письмо А. С. Пушкина. "Вестник Московского университета. Серия общественных наук", 1950, № 1, стр. 167 - 170.)
Привожу полный текст письма в наиболее близком к французскому подлиннику переводе, который дан в Большом Академическом издании.1
1 (Внесенные мною в перевод изменения отмечены курсивом.)
"Графиня
Крайне жестоко с Вашей стороны быть такой любезной и заставлять меня так сильно скорбеть от того, что я удален от Вашего салона. Во имя неба, графиня, не подумайте, однако, что мне понадобилось неожиданное счастье получить от Вас письмо, чтобы пожалеть о том месте, которое Вы украшаете. Я надеюсь, что недомоганье Вашей матушки не имело последствий и не причиняет Вам более беспокойства. Я хотел бы уже быть у Ваших ног и поблагодарить Вас за милую память обо мне, но мое возвращение еще очень сомнительно.
Позволите ли Вы сказать Вам, графиня, что Ваши упреки так же несправедливы, как Ваше письмо прелестно. Поверьте, что я всегда останусь самым искренним поклонником Вашей любезности, столь непринужденной Вашей беседы, такой приветливой и увлекательной, хотя Вы имеете несчастье быть самой блестящей из наших знатных дам.
Благоволите, графиня, принять еще раз выражение моей признательности и моего глубокого уважения.
А. Пушкин
25 апреля 1830 г. Москва"
Быть может, когда-либо французскому тексту этого письма кто-нибудь из специалистов посвятит обстоятельное филологическое исследование. "Лучший наш стилист лучше бы не написал", - сказала мне о нем в 1942 году г-жа Мадлен Вокоунь-Давид (M-me Madelaine Vokoun-David), в то время лектор французского языка в Пражском университете, когда я показал ей только что полученную из Теплица копию. "Хрестоматийный образец письма светского человека к даме высшего общества", - прибавила она. Тогда же ученая француженка обратила мое внимание на то, что в письме Пушкина один синтаксически необычный оборот в данном контексте вполне оправдан и свидетельствует о превосходном знании русским поэтом тонкостей французского языка.
К сожалению, я не могу здесь останавливаться на этом великолепном образце французской эпистолярной прозы. Скажу лишь, что в стилистическом отношении он написан не только тщательно, но и в высшей степени изысканно. В то же время простые, прекрасно достроенные фразы, которые льются с обычной для Пушкина легкостью, далеки от всякой напыщенности, которую так не любила графиня Фикельмон.
Обратимся теперь к русскому переводу. Как всякий перевод, он, конечно, далеко не передает прелести подлинника, но все же позволяет достаточно точно познакомиться с мыслями и чувствами поэта.
Д. Д. Благой отмечает, что письмо Пушкина выдержано в том же светском духе, что и известная записка графини поэту с приглашением принять участие в маскарадной поездке. По его мнению, все же "...за светской любезностью чувствуется и несомненная симпатия к блистательной адресатке, которая, соединяя в себе ум и красоту с простотой и непринужденностью,- сочетание, столь редко встречающееся в женщинах ее круга,- видимо, в какой-то мере напоминала ему его "милый идеал" - Татьяну последней главы "Евгения Онегина".
И с тем и с другим нельзя не согласиться.1 Письмо поэта менее всего похоже на спонтанное излияние своих мыслей и чувств. M-me Вокоунь-Дазид, прочтя его в 1942 году, сразу же сказала мне, что Пушкин, надо думать, сначала составил черновик, а затем тщательно обработал его стилистически. Это в высшей степени вероятно,- принимаясь за письмо, поэт нередко набрасывал его сначала начерно, причем порой делал это и тогда, когда форма, казалось бы, не имела значения.2
1 (Вопрос о Фикельмон как о прототипе Татьяны-княгини я пока оставляю в стороне.)
2 (Сохранился, например, черновик письма Пушкина к "приставу" (коменданту) Военно-Грузинской дороги Б. Г, Чиляеву от 24 мая 1829 года.)
Отменная любезность в письмах к женщинам, в ocoбенности в его французских письмах, у Пушкина обычна. Крайне редки исключения вроде совсем не светского окрика по адресу Е. М. Хитрово в одной из не поддающихся датировке записок: "Откуда, черт возьми, Вы взяли, что я рассердился?" ("D'ou diable prenez-vous que je sois fache?"). Но и среди любезных писем поэта к дамам письмо к Фикельмон выделяется особой изысканностью выражений.
Остановимся вкратце на некоторых его абзацах - подробный комментарий занял бы слишком много страниц.
Вступительные строки, в которых Пушкин шутливо жалуется на любезность графини, заставившую его скорбеть об изгнании из ее салона, показывают, что уже зимой 1829 - 1830 года поэт был его завсегдатаем. Участие Пушкина в великосветской поездке с ряжеными также говорит в пользу близкого знакомства в это время. Отношения, которые существовали между Пушкиным и графиней весной 1830 года, не давали, однако, поэту права ожидать от нее письма в Москву.1 Мне кажется, что так именно следует понимать выражение "неожиданное счастье получить от Вас письмо". Сколько-нибудь частой переписки ранее, видимо, не было. В ней, правда, не было и нужды - отъезд Пушкина в Москву в марте 1830 года был первым перерывом в недолгом личном общении графини и поэта. Возможно, что он упомянул о "неожиданном счастье" лишь из светской любезности, но инициатива в обмене письмами, несомненно, исходила от Дарьи Федоровны.
1 (По светским обычаям, существовавшим в России, дамы к тому же в подобных случаях обычно не писали первыми. Сам Пушкин, очевидно, не счел ранее нужным написать Фикельмон в Петербург.)
В плане романическом Пушкину, во всяком случае, в это время было не до Фикельмон. Всего девятнадцать дней тому назад он просил руки Натальи Николаевны Гончаровой, и его предложение было принято. Напомню, кстати, что употребленное поэтом выражение "...и я желал бы уже быть у ваших ног" - это лишь очень распространенная в то время формула любезности и ничего более.1
1 (В десятых годах, будучи гимназистом, я видел в Каменец-Подольске, как актер, игравший Чацкого, сказав: "Чуть свет - уж на ногах и я у ваших ног",- опустился перед Софьей на одно колено. Очевидно и он и провинциальный режиссер понимали трафаретную форму буквально.)
Перейдем теперь к наиболее значительному месту письма. Перечтем его еще раз: "Позволите ли Вы сказать Вам, графиня, что Ваши упреки так же несправедливы, как Ваше письмо прелестно. Поверьте, что я всегда останусь самым искренним поклонником Вашей любезности, столь непринужденной, Вашей беседы, такой приветливой и увлекательной, хотя Вы имеете несчастье быть самой блестящей из наших знатных дам".
Эти пушкинские строки очень интересны. Впервые мы слышим прямой отзыв Пушкина о графине Фикельмон. Вместе с тем они позволяют предположить, о чем именно Дарья Федоровна писала поэту.
Придется сначала остановиться на некоторых трудностях, которые представляет перевод данного места.
Поэт говорит, что письмо графини "est seduisante". Дословно "seduisant" значит "обольстительный", но сказать "обольстительное письмо" по-русски нельзя. Переводчику пришлось употребить слово "прелестно", хотя французское прилагательное более выразительно и предполагает желание очаровать. Мы знаем, что графиня Долли, ученица ранних романтиков, такие письма составлять умела.
Еще труднее найти подходящий эквивалент для другого пушкинского выражения: "vos graces si simples". Я попытался передать этот термин, неправильно переведенный в некоторых изданиях, словом "любезность", но оно значительно суше и банальнее французского. "Vos graces" заключает в себе оттенок милостивого внимания, как бы снисхождения, оказываемого высокой особой. Из богатого арсенала современного ему французского языка (сейчас "Vos graces" никто не говорит) Пушкин выбрал чрезвычайно изысканное выражение, но смягчил его церемонность прилагательным "simple" (непринужденный, простой).
Недаром в лицее Пушкина прозвали "французом"...
В свидетельствах современников графини Фикельмон слово "простая" встречается не раз. Мы находим его, например, у Вяземского и у А. И. Тургенева. Теперь к ним присоединяется и голос Пушкина. Он, как и Вяземский, конечно, говорит о той великолепной простоте обращения, которая дается только избранным.
Поэт заявляет себя искренним поклонником "...вашей беседы, такой приветливой и увлекательной...". И здесь его голос звучит согласно с тем, что мы находим у Вяземского, А. И. Тургенева, И. И. Козлова. Великий мастер разговора, должно быть, ценил в Долли Фикельмон достойную себя собеседницу.
Как и другие, он отмечает и приветливость графини - одно из проявлений ее доброй души.
Заключительные строки пушкинского письма: "...хотя Вы имеете несчастье быть самой блестящей из наших знатных дам",- я склонен считать лишь любезной фразой. В своем дневнике за 1829 - 1831 гг. графиня неоднократно говорит, что она очень счастлива. Мы не знаем также ничьих свидетельств, которые говорили бы об обратном.
В 1829 - 1831 гг., как мы видели, Фикельмон была очень дружна с Вяземским. В очерке "Переписка друзей" я назвал их отношения в этот период "влюбленной дружбой". Нет, однако, оснований думать, что и дружба графини с Пушкиным в это время тоже была недалека от любви. Умнейший человек и очаровательный собеседник, несомненно, ее интересовал. Понаслышке Фикельмон знала и о том, что Пушкин - гениальный поэт. Вполне естественно, что она, не меньше других интересовалась слухами о предстоящей женитьбе, слухами, которые к тому же глубоко огорчали ее любимую мать. Будучи человеком очень непосредственным (вспомним письма к ней царя Александра I), Дарья Федоровна сочла возможным написать Пушкину первой и обратиться к нему с какими-то упреками, от которых поэт почтительно защищался в своем ответном письме. Графиня еще не знала о состоявшейся помолвке - иначе она, несомненно, поздравила бы адресата. Столь же несомненна, однако, и связь ее письма с петербургскими слухами о женитьбе. За это говорит и приблизительная дата его написания (19 - 20 апреля).
С большой вероятностью можно предположить, что Фикельмон заранее упрекала Пушкина в том, что он переменит свое отношение к ней. Быть может, станет менее внимательным. Что речь идет именно о перемене ожидаемой, а не произошедшей, видно из употребления поэтом будущего времени - "...я всегда останусь самым искренним поклонником ...
Вряд ли эти упреки шли дальше тех дружеских и ни к чему, собственно, не обязывающих разговоров о чувствах, которые мы многократно встречали в переписке графини и Вяземского за 1830 - 1831 гг.
Однако самая возможность каких бы то ни было упреков в связи с предстоящей женитьбой предполагает не только близкое знакомство, но и немалую степень дружбы. Иначе нельзя себе представить, чтобы многоопытная светская женщина, какой, безусловно, была графиня Долли в 1830 году, несмотря на свою молодость, допустила бы неосторожный и грубый промах, вторгаясь в область, которая совсем ее не
касалась. Чтобы улрекать, надо чувствовать какое-то право на упреки. Дружба это право дает, и я думаю, что письмо Пушкина позволяет с уверенностью считать отношения поэта и графини весной 1830 года дружескими.
В ответе Пушкина, при всей его изысканной любезности и известной задушевности, чувствуется все же, как мне кажется, желание точнее определить отношения в будущем. Пишет жених, как он думал, перед самой свадьбой, и обращается к молодой очаровательной женщине, которая, возможно, была к нему все же несколько неравнодушна. Пушкин, по существу, говорит, что, женившись, он будет по-прежнему ценить любезность Дарьи Федоровны и по-прежнему будет рад с ней беседовать, но больше он ничего не обещает. Круг очерчен. Графиня Фикельмон остается для поэта доброй приятельницей, какой была и раньше. Женитьба ничего не изменит, и упреки загодя несправедливы.
Но о стороне сентиментальной Пушкин умалчивает. Он женится.
II
О своей помолвке Пушкин сообщил в письмах некоторым близким друзьям еще до того, как родители Н. Н. Гончаровой разослали извещение от "Майя 6 дня". Княгине В. Ф. Вяземской он написал, например, о предстоящей свадьбе, прося ее быть посаженной матерью, не позже 28 апреля. 2 мая в письме к П. А. Вяземскому Пушкин спрашивает, сказал ли тот о помолвке своей сестре, Екатерине Андреевне Карамзиной. Около 5 мая он пишет П. А. Плетневу: "Ах, душа моя, какую женку я себе завел!" Вряд ли можно сомневаться в том, что Пушкин счел также себя обязанным известить о предстоящем событии и Елизавету Михайдовну Хитрово. Не сделать этого, значило бы серьезно ее обидеть, а Пушкин - нельзя этого забывать - был хорошо воспитанным человеком, усердно исполнявшим светские обычаи.
После отъезда Пушкина в Москву Елизавета Михайловна, догадавшаяся о цели поездки, отправляла ему одно письмо за другим, и эти отчаянные послания всерьез наскучили поэту. Уже во второй половине марта он пишет Вяземскому: "...она преследует меня и здесь письмами и посылками. Избавь меня от Пентефреихи".1 Но "Пентефреиха"- это для Петра Андреевича, в расчете на то, что он не разболтает. Для общества - Ее Превосходительство генерал-майорша Хитрово, теща австрийского посла; для самого себя, несмотря на все ее странности,- умный и преданный друг... Оскорбить ее молчанием Пушкин не мог.
1 (Пушкин имеет в виду библейский рассказ о жене египтянина Пентефрия (Петифара), домогавшейся любви молодого Иосифа.)
Можно думать, что Елизавета Михайловна, как ни было ей горько, в ответ на извещение поздравила жениха, но это письмо до нас не дошло.
9 мая она писала: "Я не имею для вас никакого значения. Говорите мне о вашей свадьбе и о ваших планах на будущее. Все разъезжаются, а хорошая погода не наступает. Долли и Катрин просят вас рассчитывать на них, чтобы вывозить в свет вашу Натали. Г-н Сомов дает уроки посланнику и его жене,- что же касается меня, то я перевожу на русский язык "Светский брак" и буду его продавать в пользу бедных. Элиза - 9-е вечером".
Тон этого письма грустный, но спокойный - Е. М. Хитрово, видимо, примирилась с неизбежным, но, быть может, это спокойствие только кажущееся, нарочитое. Она говорит о женитьбе поэта, которая, конечно, не перестала ее волновать, как-то походя, вперемежку с сообщениями о погоде, уроках Сомова и своих переводческих планах, кстати сказать, неосуществившихся и неосуществимых - по-русски, как и по-французски, Елизавета Михайловна писала очень неправильно.
Пушкин ответил довольно быстро, но все же не очень. Письмо Хитрово он должен был получить числа 13 - 14, а его короткая (всего три строчки) записка датирована 18 мая: "Не знаю еще, приеду ли я в Петербург,- покровительницы, которых вы так любезно обещаете, слишком уж блестящи для моей бедной Натали. Я всегда у их ног, так же как у ваших".
Надо сказать, что одни и те же слова, даже если они точно переведены, зачастую в подлиннике звучат иначе, чем по-русски. "Бедной" в этой фразе, по-французски - всего лишь словесное украшение, а "быть у чьих-нибудь ног", как мы знаем - старинная форма вежливости - и только. По существу же из письма Хитрово следует, что обе молодых графини, во-первых, считают себя приятельницами Пушкина, и, во-вторых, очевидно, в свете никто не сплетничает по поводу их дружбы с поэтом. Собственно говоря, "покровительницей" молодой женщины, начинающей выезжать в большой свет, скорее приличествовало стать пожилой Елизавете Михайловне, но легко понять, что в светском обществе над этим начали бы смеяться...
В конце мая она пишет Пушкину еще одно письмо - на этот раз очень длинное, очень серьезное и до предела искреннее. Деланного спокойствия в нем нет. Елизавета Михайловна примирилась с тем, что любимый человек женится, но не скрывает того, что ей тяжело: "Когда я утоплю в слезах мою любовь к вам, я тем не менее останусь все тем же существом - страстным, кротким и безобидным, которое за вас готово идти в огонь и воду, потому что так я люблю даже тех, кого люблю немного".
"Благодаря богу, у меня в сердце вовсе нет эгоизма. Я размышляла, я боролась, страдала и наконец достигла того, что сама желаю, чтобы вы поскорее женились. Устройтесь же с вашей прекрасной и очаровательной женой в хорошеньком, маленьком и чистом деревянном домике; по вечерам ходите к тетушкам составлять им партию и возвращайтесь домой счастливый, спокойный и благодарный провидению за вверенное вам сокровище".
Возможно, что тогда, в мае 1830 года, заочно восхищаясь будущей женой поэта и сочиняя эту идилию в духе Руссо (не хватает только зеленых ставень у предназначаемого Пушкину деревянного домика),- возможно, что тогда она была искренна. Однако из письма Елизаветы Михайловны к Вяземскому от 12 сентября того же года1 видно, что спустя несколько месяцев ее отношение к невесте поэта, "прекрасной и очаровательной", резко переменилось - по крайней мере на время. Хитрово,, по-видимому, только что узнала, что Пушкин уехал (31 августа) из Москвы в Болдино. По этому поводу она разражается упреками по адресу Натальи Николаевны, в которых чувствуется и нескрываемая любовь к поэту и несомненная ревность: "Как вы отпускаете Пушкина ехать среди всех этих болезней? Однако его невеста создана для того, чтобы позволять ему носиться в одиночку. Так как нужно, чтобы он женился, я хотела бы, чтобы это уже совершилось и чтобы его жена, брат, сестра - все они только бы и думали, как о нем позаботиться! Знаете, если бы они были под властью (его) очарования, как я, они не знали бы покоя ни ночью, ни днем!"2
1 (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. I, № 2939, лл. 163, об.- 164.)
2 (Отрывок публикуется апервые.)
Графиня Долли теперь спокойнее и выдержаннее матери. Ее порывистая юность прошла. Тоже тревожится за друзей, которые могут заразиться холерой, но пишет Вяземскому 4 декабря 1830 года строки весьма рассудительные: "К тому же нет ничего менее веселого, чем современный салон,- нет больше любезности, нет больше изящества в выдумках, если только вы и Пушкин вскоре не вернетесь - жизнь в деревне, быть может, предохранила вас обоих от этой роковой заразы".1
1 (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. I, № 2939, 3, об.- 4.)
Фикельмон считает - и она, надо думать права, что, оставаясь в своем поместье, легче уберечься от холеры, чем в Москве.
Вернемся теперь немного назад - к лету все того же 1830 года.
Свадьба Пушкина по разным причинам долго откладывалась. На короткое время (конец июня - начало августа) он приехал в Петербург и затем снова вернулся в Москву. Очевидно, повидавшись с поэтом, Фикельмон записывает 11 августа 1830 года: "Вяземский уехал в Москву и с ним Пушкин, писатель; он приезжал сюда на некоторое время, чтобы устроить дела, и теперь возвращается, чтобы жениться. Никогда еще он не был таким любезным, таким полным оживления и веселости в разговоре. Невозможно быть менее притязательным и более умным в манере выражаться".
Быть может, поэт вспомнил о том, что в апрельском письме Дарья Федоровна заранее упрекала его в том, что, женившись, он переменит свое отношение к ней. Вспомнил и лишний раз хотел показать, что все остается по-старому.
Графиня Долли очень ценила в людях умение вести беседу и, в особенности, способность говорить просто и занимательно. Чувствуется, что именно эта способность Пушкина, оттенявшая его блестящее остроумие и ум, особенно восхищала молодую женщину.
А в графине Долли он видит исключительно умную, блестящую собеседницу, не говоря уже об ее способности очаровывать и редкой красоте. В салоне Фикельмон поэт прост и естественен. Он беседует с женщиной, хотя и не гениальной, но достойной общества гения.
18 февраля 1831 года Пушкин наконец обвенчался с Н. Н. Гончаровой. Первые месяцы молодые прожили в Москве, а в середине мая, не поладив с тещей, поэт приехал с. женой в Петербург, намереваясь провести лето и осень в. Царском Селе, .
Вернемся снова к дневнику Фикельмон. 21 мая она зализывает: "Пушкин приехал из Москвы и привез свою жену, но не хочет еще ее показывать (в свете). Я видела ее у маменьки - это очень молодая и очень красивая особа, тонкая, стройная, высокая - лицо Мадонны, чрезвычайно бледное, с кротким, застенчивым и меланхолическим выражением,- глаза зеленовато-карие, светлые и прозрачные, взгляд не то чтобы косящий, но неопределенный,- тонкие черты, красивые черные волосы. Он очень в нее влюблен, рядом с ней его уродливость еще более поразительна, но когда он говорит, забываешь о том, чего ему не достает, чтобы быть красивым,- он так хорошо говорит, его разговор так интересен, сверкающий умом без всякого педантства".
Портретов Натальи Николаевны известно немало, но почти все они относятся ко времени ее вдовства или второго замужества с генералом П. П. Ланским.1 Немало мы знаем и описаний ее внешности в переписке и мемуарах современников. Прелестная словесная акварель, набросанная Фикельмон после первой встречи с Натальей Николаевно,- едва ли не лучший ее литературный портрет. Чувство прекрасного, которое было так сильно у Дарьи Федоровны, сказалось здесь в полной мере. Сказалась в ее записи и всегдашняя способность наблюдать людей. Фикельмон сразу заметила, что Пушкин влюблен в свою юную жену. Очень, конечно, естественное состояние молодожена, но надо сказать, что за долгие месяцы жениховства чувство поэта к Наталье Николаевне одно время сильно остыло. Ряд надежных сведений говорит о том, что под венец он шел неохотно, почти что по обязанности.
1 (О самом раннем снимке - дагерротипе 1850 - 1851 года см. в первом очерке настоящей книги (стр. 29).)
За неделю до свадьбы (10 февраля 1831 года) он пишет своему приятелю Н. И. Кривцову: "До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастия мне не было (...). Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся - я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования (...). Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью".
- Но свадьба состоялась, и радостно удивленный Пушкин почувствовал, что к нему в самом деле пришло долго не дававшееся счастье. Через шесть дней после венчания (24 февраля) он пишет П. А. Плетневу: "Я женат - и счастлив; одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось - лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился".
Через три месяца счастливого, влюбленного поэта увидела у себя Фикельмон. По-прежнему он кажется ей очень некрасивым, даже уродливым человеком, о внешности которого забываешь, когда он начинает говорить. По-прежнему графиня отмечает сверкающий ум поэта. С обычной своей проницательностью она чувствует, что Пушкин счастлив.
Пребывание молодоженов в Петербурге, где они жили в гостинице Демута, продолжалось всего неделю. 25 мая Пушкины уехали в Царское Село, куда вскоре в связи с начавшейся в столице эпидемией холеры переехала царская семья и двор. Вокруг резиденции были установлены карантины и сообщение с Петербургом прекращено. К этому времени относится еще одно впервые публикуемое сообщение о Пушкине в письме Е. М. Хитрово к Вяземскому от 12 июля l831 года: "Наш друг в Царском Селе - я не могу для него ничего сделать - за исключением книг".1
1 (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. I, № 2939, л. 12.)
Таким образом, несмотря на карантинные строгости, заботливая Елизавета Михайловна продолжала снабжать поэта нужными книгами, вероятно, используя при этом возможности своего зятяпосла.1
1 (19 или 20 июня, очевидно, еще до установления карантинов, Пушкин благодарит в письме Е. М. Хитрово за присылку запрещенной к ввозу в Россию книги Минье.)
Мы видим лишний раз, что ее отношение к Пушкину после его женитьбы остается прежним. С другой стороны, хорошо известно, что Е. М. Хитрово сумела себя перебороть и, оставаясь другом Пушкина, жизни его больше не осложняла.
Обратимся теперь снова к ее дочери. 25 мая, через четыре дня после того, как графиня Долли писала в дневнике о счастии Пушкина, она в грустном письме к князю Вяземскому, полном тревоги по поводу холеры и событий в Польше, сообщала ему свои мысли о несчастии, которое она предвидит для четы Пушкиных в будущем. Это почти невероятно, но это так...
В письме, опубликованном еще в 1884 году сыном Вяземского,1 имеются такие строки: "Пушкин к нам приехал к нашей большой радости. Я нахожу, что он в этот раз еще любезнее; мне кажется, что я в уме его отмечаю серьезный оттенок, который ему и подходящ. Жена его прекрасное создание; но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие (pressentiment) несчастия у такой молодой особы. Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем. У Пушкина видны все порывы страстей; у жены вся меланхолия отречения от себя. Впрочем, я видела эту красивую женщину еще только один раз".2
1 (См. очерк "Переписка друзей", стр. 159.)
2 (Сверив ставший традиционным перевод П. П. Вяземского с фотокопией подлинника, я добавил пропущенные Павлом Петровичем слова "у такой молодой особы" и "еще" (в последней фразе), а также несколько изменил пунктуацию. Курсивом выделено слово "предчувствие", подчеркнутое Фикельмон.
Точную транскрипцию французского текста письма опубликовала Н. Каухчишвили . Дневник Фикельмон, стр. 188.)
Еще определеннее выразились опасения графини в письме к Вяземскому двенадцатого декабря того же года: "Пушкин у вас в Москве, жена его хороша, хороша, хороша! Но страдальческое выражение ее лба заставляет меня трепетать за ее будущность".
Пушкинисты единодушны в оценке этого удивительного предвидения, которое говорит о глубоком уме и совсем исключительной интуиции двадцатисемилетней Дарьи Федоровны. Когда Пушкин женился, многие из его друзей, знавшие непостоянный нрав поэта, не ожидали ничего хорошего от этого брака, но несчастья непоправимого, катастрофы, кроме Фикельмон, не ожидал никто.
Грустные пророчества графини, несомненно, стоят в связи с тем ее свойством, которое ее родственница по мужу, графиня Каролина Латур называла "avoir un oeil au bout du nez".1 Дарья Федоровна была вообще чрезвычайно склонна волноваться за людей, так или иначе ей дорогих и легко видела их будущее в трагическом свете. "Это недуг, которым природа наделила меня в непереносимой степени", - пишет она сестре 25 апреля 1849 года.
1 (Сони, стр. 214. Дословно: "Иметь глаз на кончике носа".)
Наталье Николаевне и отношению к ней мужа посвящено еще несколько интересных записей.
25 октября 1831 года поэт с женой присутствовал на большом вечере у Фикельмонов. Это было первое появление Пушкиной в высшем обществе Петербурга. Графиня на следующий день записала: "Госпожа Пушкина, жена поэта, здесь впервые явилась в свете; она очень красива и во всем ее облике есть что-то поэтическое - ее стан великолепен, черты лица правильны, рот изящен и взгляд, хотя и неопределенный, красив; в ее лице есть что-то кроткое и утонченное; я еще не знаю, как она разговаривает,- ведь среди 150 человек вовсе не разговаривают,- но муж говорит, что она умна. Что до него, то он перестает быть поэтом в ее присутствии; мне показалось, что он вчера испытывал все мелкие ощущения, все возбуждение и волнение, какие чувствует муж, желающий, чтобы его жена имела успех в свете". И на этот раз Долли Фикельмон не ошиблась. Впоследствии, когда светские успехи красавицы Натальи Николаевны стали едва ли не главным содержанием ее жизни, Пушкин пережил в связи с этим немало горьких дней. Уже в сентябре 1832 года он пишет жене: "Я только завидую тем из них (друзей.- Я. Р.), у коих супруги не красавицы, не ангелы прелести, не мадонны etc, etc. Знаешь русскую песню -
Не дай бог хорошей жены, Хорошу жену часто в пир зовут.
А бедному-то мужу во чужом пиру похмелье, да и в своем тошнит".
Позднее это похмелье стало еще сильнее, но, надо сказать правду,- наступило оно далеко не сразу. Привезя жену в столицу, поэт первое время, несомненно, сам увлекался и гордился ее светскими успехами. А зоркая наблюдательница Фикельмон не расставалась с мыслью о несчастном будущем четы Пушкинах. 12 ноября 1831 года после бала у председателя Государственного Совета Кочубея и за месяц до письма Вяземскому, о котором уже говорилось, она пишет в дневнике: "Поэтическая красота г-жи Пушкиной проникает до самого моего сердца. Есть что-то воздушное и трогательное во всем ее облике - эта женщина не будет счастлива, я в том уверена! Она носит на челе печать страдания. Сейчас ей все улыбается, она совершенно счастлива, и жизнь открывается перед, ней блестящая и радостная, а между тем голова ее склоняется и весь ее облик как будто говорит: "я страдаю"! Но и какую же трудную предстоит ей нести судьбу - быть женою поэта, и такого поэта, как Пушкин!"
Что сказать об этих задушевных строках? В подлиннике в них еще больше литературного блеска, но, самое главное,- еще и еще раз Дарья Федоровна Фикельмон оправдывает прозвание "Сивиллы флорентийской" - предсказательницы будущего.
Личность Натальи Николаевны, жены великого поэта, видимо, продолжала интересовать графиню Долли. Год спустя, 22 ноября 1832 года, она записывает: "Вчера мы дали наш первый большой раут (...). Общество еще лишено своего лучшего украшения, так как все почти молодые женщины еще остаются дома. Однако самая красивая вчера там была - Пушкина, которую мы прозвали поэтической как из-за ее мужа, так из-за ее небесной и несравненной красоты. Это образ, перед которым можно оставаться часами, как перед совершеннейшим созданием творца".1
1 (Дополненный мною перевод сличен с фотокопией стр. 106 - 107 второй тетради дневника.)
По-видимому, в этот день, 22 ноября, фамилия поэта упоминается графиней в последний раз и затем внезапно исчезает со страниц ее дневника вплоть до записи о дуэльной драме. Факт этот нуждается в проверке (напомню, что за 1832 - 1836 гг. дневник не опубликован, кроме небольших отрывков), но, по словам А. В. Флоровского, прочитавшего весь документ в подлиннике, "приведенными записями, к сожалению, и ограничивается - кроме рассказа о смерти (...) - находящийся в дневнике гр. Ф. материал непосредственно о Пушкине и его жене".1
1 (Флоровский. Пушкин на страницах дневника, стр. 570.)
Я не рассмотрел еще одной записи, относящейся к Наталье Николаевне, хотя она сделана, несколькими месяцами раньше последней. Ее содержание показывает, что, по-прежнему восхищаясь красотой Пушкиной, "совершеннейшего создания творца", графиня Фикельмон с некоторого времени начала очень скептически относиться к ее уму. В сентябре 1832 года, когда у Пушкина уже началось "похмелье" от всеобщего увлечения внешностью его жены, в дневнике наблюдательницы, в связи с вечером у князей Белосельских-Белозерских на Крестовском острове, появляется такая запись.
"Госпожа Пушкина, жена поэта, пользуется самым большим успехом; невозможно быть прекраснее, ни иметь более поэтическую внешность, а между тем, у нее не много ума и даже, кажется, мало воображения".1
1 (Там же, стр 565. Фотокопии этой записи я не получил.)
Впоследствии, как мы увидим, в связи с дуэльной драмой Фикельмон отзывается об уме Натальи Николаевны тоже довольно резко. Права ли она? Мне кажется, следует ответить и неправа и права. Практически, житейски жена Пушкина, несомненно, была далеко не глупой молодой женщиной. Сказывалась в ней, я думаю, и кровь предков - деятельных и оборотистых промышленников Гончаровых. Прислушаемся к тому, как отзывается о ней в письмах сам поэт: "Какая ты умненькая, какая ты миленькая! Какое длинное письмо! как оно дельно! благодарствуй, женка! Продолжай, как начала, и я век за тебя буду бога молить" (25 сентября 1832 года).
"Ты, мне кажется, воюешь без меня дома, сменяешь людей, ломаешь кареты, сверяешь счеты, доишь кормилицу. Ай-да хват баба! что хорошо то хорошо" (около 3 октября того же года).
"Ты умна, ты здорова - ты детей кашей кормишь - ты под Москвой. - Все это меня очень порадовало и успокоило; а то я был сам не свой" (24 апреля 1834 года).
Очень ценная в своей документальной части работа М. И. Яшина,1 опубликовавшего наряду с другими материалами ряд подробных писем Натальи Николаевны к брату Дмитрию, показывает, что жена поэта весьма хорошо разбиралась в денежных делах и в нужных случаях действовала быстро и инициативно.
1 (М. Яшин. Пушкин и Гончаровы. "Звезда", 1964, № 8, стр. 169 - 189. Перевод с французского, сделанный автором, вызывает сомнения лишь в очень немногих местах.)
В своей практичности она заходила порой очень далеко. Трудно было, например, предположить, что совсем еще молодая женщина, "мадонна", "Психея", "поэтическая Пушкина" и т. д. может размышлять о том, кому можно было бы дать взятку, чтобы соответствующим образом повлиять на решение в пользу Гончаровых очень важного для них процесса с арендатором их фабрик купцом И. Г. Усачевым. Между тем, 1 октября 1835 года она пишет брату: "Второе, что я хотела бы знать: является ли правая рука Лонгинова,1 т. е. человек, занимающийся нашим делом, честным человеком, или он из таких, которых надо подмазать? В этом случае надо соответственно действовать. Как только я это узнаю точно, я дам тебе знать об этом".
1 (Николай Михайлович Лонгинов, статс-секретарь по принятию прошений на высочайшее имя, член Государственного совета.)
В отсутствии мужа, уехавшего в Михайловское, Наталья Николаевна настойчиво обхаживает сановников, от которых зависит решение по данному Делу.1 Сенатор Бутурлин советует ей самой обратиться к царю, взяв обратно прошение, поданное Дмитрием Николаевичем. Пушкина решает последовать этому совету и пишет брату: "Прости, но он (Бутурлин.- Н. Р.) говорит, что мое имя и моя личность более известны Его Величеству, чем твои". Только вежливое, но настоятельное письмо Лонгинова от 31 октября 1832 года, указавшего на полную неуместность такого шага, заставляет Наталью Николаевну от него отказаться.
1 (Судя по письму Натальи Николаевны, Пушкин намеревался хлопотать по делу Гончаровых перед своим давнишним знакомым, с 1832 года министром юстиции, Д. В. Дашковым.)
Быстро и толково она исполнила просьбу Пушкина, которому летом того же 1835 года понадобилась бумага дли задуманного им альманаха.1 Как видно из ее письма к брату от 18 августа, она приняла эту просьбу близко к сердцу: "Мой муж поручает мне, дорогой Дмитрий, просить тебя оказать любезность - приготовить ему 85 стоп бумаги по образцу, который я прилагаю к этому письму (...)o Я прошу не отказать нам, дорогой брат, если наша просьба не затруднит и не создаст тебе неудобств".
1 (Это издание не было осуществлено.)
М. И. Яшин справедливо подчеркивает значительность слова "наша", которое говорит о внимании Пушкиной к литературным делам мужа. Ряд писем поэта к жене во время его последней поездки в Москву в мае 1836 года показывает, что в это время она фактически исполняла обязанности секретаря редакции "Современник". Исполняла старательно хотя, кажется, спутала Гоголя и Кольцова. "Ты пишешь о статье Гольцовской. Что такое? Кольцовской или Гоголевской? "Гоголя печатать, а Кольцова рассмотреть",- наказывает Пушкин 11 мая.
Перечитывая то ласковые, то сердитые, но всегда почти задушевные письма Пушкина к жене, нельзя все же не заметить, что о духовных интересах своей красавицы Натали он был, в общем, мнения невысокого. Очень редко поэт упоминает о прочитанных книгах, о виденных картинах. Отвлеченных вопросов, политических новостей, даже таких, о которых можно было говорить, не опасаясь перлюстрации, не касается совсем. Не беседует Пушкин с женой и о собственном творчестве, которое, по-видимому, мало ее интересовало. Если и говорит о своих произведениях и журнальных планах, то только как об источниках дохода.
Скажем еще раз - в делах житейских Пушкина далеко не глупа, но она целиком на земле. Оторваться от нее, приблизиться к тем духовным вершинам, где царит ее гениальный муж, она совершенно не в состоянии. В этом отношении Фикельмон права - ум у Натальи Николаевны небольшой, очень небольшой, а художественное воображение совсем уж не ее удел.1
1 (Сведения о том, что Н. Ы. Пушкина пробовала писать стихи, пока не подтвердились.)
Жена поэта встречалась с графиней Фикельмон главным образом в обществе, на многолюдных балах и приемах, но от времени до времени, несомненно, бывали и встречи "запросто", в тесном кругу друзей. Об одном из таких обедов у Фикельмон мы узнаем из недатированной записки графини Долли к Вяземскому:1 "Дорогой Вяземский, вы должны сегодня достаточно хорошо себя чувствовать, чтобы пообедать у нас. Зинаида приедет в последний раз, Пушкины (поэт),2 Смирновы обедают у меня. Итак, приезжайте в 5 ч.- я вам дам бульон для больного! Долли".
1 (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. I, № 2939, л. 118.)
2 (Упоминая о Пушкине, Фикельмон часто прибавляет "писатель" или "поэт",- вероятно, чтобы отличить его от своих знакомых графов Мусиных-Пушкиных.)
Прошу читателя вместе со мной всмотреться в текст этой дружеской записки, так как она содержит, хотя и очень малозначительный, но все же новый факт из жизни поэта.
Среди близких знакомых Фикельмон мы знаем только одну Зинаиду - графиню Зинаиду Ивановну Лебцельтерн, урожденную графиню Лаваль. Ее муж был предшественником Фикельмона на посту посла в Петербурге. Лебцельтерн приехала в столицу на пароходе около 10 мая 1832 года,1 надо думать, для свидания с родными. Графиня Фикельмон упоминает о ней в записях 15 мая и 20 августа того же года.2 По-видимому, во второй половине августа ее новая приятельница собиралась уезжать или уже уехала обратно за границу. С другой стороны, именно в это время в письмах Вяземского к жене есть ряд упоминаний об его довольно упорном желудочном заболевании. 14 августа Петр Андреевич еще болен и его навещает графиня Долли вместе с матерью, а 17 он уже принимается подыскивать квартиру для семьи.3
1 ("Звенья", IX, стр. 357.)
2 (Флоровский. Дневник Фикельмон, стр. 87. Содержание записей не приведено.)
3 ("Звенья", IX, стр. 437 - 438.)
Таким образом, можно считать, что Пушкин был приглашён с женой пообедать у Фикельмонов в тесном кругу в половине августа 1832 года.
В бальных залах Наталья Николаевна Пушкина была одной из самых ярких звезд. Красотой могла соперничать с кем угодно - в том числе и с графиней Фикельмон. Вероятно, она научилась также довольно умело поддерживать легкий, "салонный" разговор, хотя с этой стороны мы знаем ее очень мало. Можно все же думать, что и при таких беседах, где форма обычно преобладала над содержанием, сказывался неискоренимый недостаток бывшей барышни Гончаровой - ее провинциальность.
30 октября 1833 года Пушкин писал жене: "...ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет московской барышнею, все, что comme il faut, все что vulgar...".1 Можно, однако, сказать, что в Наталье Николаевне временами чувствовалось не так ее московское прошлое, как прочная душевная связь с очень провинциальной жизнью Калужской губернии, где находилось поместье Гончаровых,- Полотняный Завод.
1 (Отзывается невоспитанностью... вульгарно.)
Недаром в письме Пушкина к Наталье Николаевне от 3 августа 1834 года есть такие строки: "Описание вашего путешествия в Калугу, как ни смешно, для меня вовсе не забавно. Что за охота таскаться в скверный уездный городишко, чтоб видеть скверных актеров, скверно играющих старую, скверную оперу? что за охота останавливаться в трактире, ходить в гости к купеческим дочерям, смотреть с чернию губернский фейворок, когда в Петербурге ты никогда и не думаешь посмотреть на Каратыгиных и никаким фейвороком тебя в карету не заманишь. Просил я тебя по Калугам не разъезжать, да, видно, уж у тебя такая натура".
Да, натура упорной провинциалки... В этом отношении характерно также французское письмо вдовы Пушкина к Александру Ивановичу Тургеневу от 10 марта 1843 года.1 Этот любопытный документ опубликован давно и частью воспроизведен фототипически, но почему-то не привлек внимания исследователей и, насколько я знаю, до сих пор не был даже переведен. Приведу из него несколько строк.
1 (А. А. Фомин. Петр Николаевич Тургенев и его дар русской науке. "Отчет Отделения русского языка и словесности". СПб., 1912. Приложения, стр. 60 - 65.)
Тридцатилетняя Наталья Николаевна пишет пятидесятидевятилетнему Тургеневу впервые,- по ее словам, он не знает ее почерка, не встречались они ряд лет, но тон дружеской болтовни Пушкиной чрезвычайно фамильярный, а некоторые фразы граничат с пошлостью. "Я не требую or вас полной правды, я только смиренно спрашиваю имя того цветка, который в данное время остановил полет1 нашей желанной бабочки. Увы, все те, кого вы покинули здесь (в Тригорском.- Н. Р.) вянут, ожидая вас. Не говорю вам, чтобы годы были здесь ни при чем, но приезжайте наконец поскорее собрать их последние ароматы.2 Теперь прощайте, самое ясное, что я должна вам сказать на свой счет, это то, что я сохраню о вас самое нежное воспоминание, всецело основанное на дружбе, не прочтите на любви.
1 (Публикатор неправильно прочел "rol" (хоботок бабочки). вместо "vol" (полет), как это видно из приложенного факсимиле части письма.)
2 (Вероятно, это намек на известное стихотворение "Цветы осенние милей (...)", которые Пушкин посвятил П. А. Осиповой.)
Натали Пушкина
Моя сестра просит напомнить вам о себе - шушечка (...)" (последнее слово по-русски.- Н. Р.).
В письме чувствуется добрая, внимательная к друзьям мужа женщина, какой и была Наталья Николаевна. Оно даже довольно литературно, но трудно признать в его авторе даму большого света. Точно провинциальная, очень провинциальная барыня-помещица пишет одному из своих "супирантов".
Мне думается даже, что в свое время Н. Н. Пушкина, быть может, чувствовала себя привольнее и веселее в гостях у калужских купеческих дочек, чем, скажем, в малой столовой Фикельмонов, в тот день, когда кроме хозяйки там была умная приятельница Пушкина Александра Осиповна Смирнова-Россет и блестящая пианистка Лебцельтерн. Разговор за столом, а затем и в гостиной, вряд ли сводился к нетрудной для Натальи Николаевны светской болтовне...
III
Будучи житейски очень неглупой, Пушкина не могла не понимать, что ни в чем, кроме красоты, соперничать с по" сольшей не может. Она, несомненно, ревновала мужа к Дарье Федоровне - справедливо или нет, об этом мы скажем дальше. Вообще же, хорошо известно, что, нежно любя жену, Пушкин увлекался и другими женщинами. В письмах к Наталье Николаевне ему не раз приходилось оправдываться против ее подозрений. Кроме графини Долли она ставила ему в укор ту же Александру Осиповну Смирнову, графиню Надежду Львовну Соллогуб, по мужу Свистунову, Софью Николаевну Карамзину и многих других. Среди предметов ее ревности фигурируют, надо сказать, и женщины, вовсе поэта не знавшие. Еще будучи невестой, Таша Гончарова вообразила (в этом отношении ее воображение было развито), что жених гостит у некоей княгини Голицыной, к которой заехал по делам. Потом, в Петербурге, в число предполагаемых увлечений мужа попала Полина Шишкова.
С последней, однако, дело обстоит сложнее. Положившись на указание П. Е. Щеголева,1 я назвал ее в книге "Если заговорят портреты" "никому неизвестной", но, несомненно, ошибся. Речь идет о фрейлине Прасковье (Полине) Дмитриевне Шишковой, относительно которой Пушкин писал жене 30 июня 1834 года: "Твоя Шишкова ошиблась* я за ее дочкой Полиной не волочился,2 потому, что не видывал (...)". Вряд лои важно и нужно выяснять, правда это или нет, тем более, что, судя по контексту письма, имеется в виду одно из увлечений холостого Пушкина.
1 (Щеголев, стр. 53.)
2 ("Волочиться" в то время не очень резало слух и почти соответствовало вполне благопристойному глаголу "ухаживать".)
И не будем удивляться чрезмерной ревности жены Пушкина - можно сказать с уверенностью, что женское чутье не всегда ее обманывало...
Долли Фикельмон связывает с Пушкиным еще одно имя. Это графиня Мусина-Пушкина. Запись 17 ноября 1832 года гласит: "Графиня Пушкина очень хороша в этом году, она сияет новым блеском благодаря поклонению, которое ей воздает Пушкин-поэт".1 Было высказано предположение о том, что речь идет о графине Марии Александровне Мусиной-Пушкиной, урожденной княжне Урусовой. Пушкин был влюблен в нее в 1827 году и изобразил графиню в чудесном стихотворении "Кто знает край, где небо блещет...".
1 (Флоровский. Пушкин на страницах дневника, стр. 566. Фотокопией этой записки я не располагаю.)
Более вероятно считать, что запись Фикельмон относится к знаменитой красавице Эмилии Карловне Мусиной-Пушкиной, урожденной Шернваль, которую воспевал Лермонтов ("Графиня Эмилия белее чем лилия"). О "поклонении" ей Пушкина в 1832 году, насколько я знаю, никто, кроме Дарьи Федоровны, не сообщает.
Обширную запись, посвященную дуэли и смерти поэта, мы рассмотрим в особом очерке.
До сих пор мы занимались отзывами Долли Фикельмон о Пушкине и его жене. Как мы видели, они красочны и интересны, но опять приходится повторять: к сожалению, их немного.
Что же говорит сам поэт о чете Фикельмон?
Довольно часты упоминания о Дарье Федоровне и ее муже в письмах Пушкина. 2 мая 1830 года он, как было уже сказано, спрашивает Вяземского: "Правда ли, что ты собираешься в Москву? Боюсь графини Фикельмон. Она удержит тебя в Петербурге. Говорят, что у Канкрина (министра финансов.- Н. Р.) ты при особых поручениях и настоящая служба твоя при ней".
В письмах к Е. М. Хитрово он несколько раз в очень церемонной форме передает поклоны обеим ее дочерям. В серии писем к Елизавете Михайловне последнее упоминание о Дарье Федоровне имеется в записке, датируемой концом января 1832 года: "Конечно, я не забуду про бал у посланницы и прошу вашего разрешения представить на нем моего шурина Гончарова".
В письмах к жене Пушкин говорит о графине Фикельмон несколько подробнее. 8 декабря 1831 года, будучи в Москве, поэт спрашивает Наталью Николаевну: "Брюллов пишет ли твой портрет? была ли у тебя Хитрово или Фикельмон?"
8 октября 1833 года он пишет ей из Болдина: "Так Фикельмон приехали? Радуюсь за тебя; как-то, мой ангел, удадутся тебе балы?" Возможно, таким образом, что в это время Дарья Федоровна наряду с теткой Натальи Николаевны, фрейлиной Е. И. Загряжской, все еще немного опекала молодую Пушкину, два года тому назад вступившую в большой петербургский свет. Вероятно, поэт был ей за это благодарен, но сам он об этом ничего не говорит.
Наиболее интересны упоминания о графине Долли в письмах 1834 года. 15 апреля Наталья Николаевна уехала с детьми к родным, и Пушкин прожил в Петербурге один др середины августа. Описывая свое времяпрепровождение, он неоднократно упоминает о семье Фикельмон и лично о Дарье Федоровне. Около 5 мая он пишет: "Летний сад полон. Все гуляют. Графиня Фикельмон звала меня на вечер. Явлюсь в свет в первый раз после твоего отъезда. За Соллогуб я не ухаживаю, вот-те Христос; и за Смирновой тоже". В конце письма Пушкин прибавляет: "Я не поехал к Фикельмон, а остался дома, перечел твое письмо и ложусь спать". 8 июня поэт сообщает: "Фикельмон болен и в ужасной хандре". 28 - 29 июня он уверяет жену, что никуда не ездит: "Говорят, что свет живет на Петергофской дороге. На Черной речке только Бобринская да Фикельмон. Принимают - а никто не едет. Будут большие праздники после Петергофа. Но я уже никуда не поеду". Несмотря на эти уверения, а может быть, и позабыв о них, Пушкин 11 июля описывает бал у Фикельмонов: "Теперь расскажу тебе о вчерашнем бале. Был я у Фикельмон. Надо тебе знать, что с твоего отъезда я кроме как в клобе нигде не бываю. Вот вчерась, как я вошел в освещенную залу, с нарядными дамами, то я смутился, как немецкий профессор; насилу хозяйку нашел, насилу слово вымолвил. Потом, осмотревшись, увидел я, что народу не так-то много, и что бал это запросто, а не раут (...). Вот, наелся я мороженого и приехал к себе домой - в час. Кажется, не за что меня бранить".
Это последнее упоминание о Фикельмон в переписке Пушкина.1 Неизвестно, поверила ли Наталья Николаевна искренности мужниного письма. Вряд ли... Опытный светский человек, блестящий собеседник, давний уже приятель графини Долли вдруг теряется, как застенчивый немецкий педант. Очень уж ясна стилизация в этих строках. Перед нами сочинение Александра Пушкина, написанное с оправдательной целью, а не откровенная беседа мужа с женой. Интересно отметить, что и князю Вяземскому приходилось писать своей умной и неревнивой жене, что ревновать его к "мадам ламбассадрис" (посольше) не стоит. По-видимому, очарование графини Фикельмон вообще пугало жен ее друзей...
1 (Наталья Николаевна, по-видимому, сохранила все письма мужа, несмотря на то, что в некоторых из них наряду с большой любовью и лаской есть и крайне резкие отзывы о ее кокетстве. Это, несомненно, делает честь ее правдивости и мужеству.
Что касается остальных писем поэта, то, по мнению некоторых исследователей, до нас дошла лишь примерно треть их. Вполне возможно поэтому, что мы не знаем и некоторых высказываний Пушкина о графине Фикельмон.)
В единственной сохранившейся тетради дневника Пушкина (специалисты спорят, существовала ли вообще еще одна) есть около десятка записей, так или иначе касающихся графини и ее мужа, но для нас они малоинтересны. Выводы, которые можно сделать из писем Пушкина и этих записей в отношении знакомства поэта с графиней Фикельмон и ее мужем, довольно скудны. Он был, как видно, исправным посетителем официальных приемов - балов, раутов, обедов в доме австрийского посла. Об этой парадной, казовой стороне знакомства Пушкин главным образом и пишет. Недоволен собою, когда случайно нарушает светские обычаи. 17 марта 1834 года записывает, например: "Третьяго дня обед у австрийского посланника. Я сделал несколько промахов: 1) приехал в 5 часов вместо 5 1/2 и ждал несколько времени хозяйку; 2) приехал в сапогах, что сердило меня во все время". Попутно отмечает кое-какие заинтересовавшие его разговоры с самим Фикельмоном и его гостями. О графине Долли, своей, несомненно, близкой знакомой, он не говорит почти ничего. Дружеская шпилька в письме к Вяземскому относительно его предполагаемого увлечения графиней одно из редких исключений.
При самом внимательном чтении всех упоминаний о хозяйке дома невозможно сказать, как же относится к ней сам поэт и что он о ней думает. О других женщинах, несравненно более заурядных, чем Фикельмон, у Пушкина отзывов немало - вплоть до наименования графини Соллогуб "шкуркой" в письме к жене от 21 октября 1833 года. О своем отношении к Дарье Федоровне поэт упорно молчит. Не будем пока пытаться выяснить, в чем же тут дело, но запомним этот несомненный факт.
Свидетельств современников об отношениях Пушкина и графини Фикельмон известно очень мало. Можно думать, что до весны 1830 года поэт во всяком случае не увлекался Дарьей Федоровной. Вяземский в письме к жене от 26 апреля этого года, охарактеризовав графиню Фикельмон, спрашивает: "Как Пушкин не был влюблен в нее, он, который такой аристократ в любви? Или боялся он inceste1 и ревности между матерью и дочерью?" 2
1 (Кровосмешения.)
2 ("Звенья", VI, стр. 242.)
Последнюю фразу вряд ли следует принимать всерьез. Как только речь заходила о Е. М. Хитрово и Пушкине, без шутки дело не обходилось и у Вяземского и у многих других.
Знаем мы и еще одну дату отрицательного характера. 25 июля 1833 года тот же Вяземский сообщает жене: "Вчера был вечер у Фикельмон (...), было довольно весело. Один Пушкин palpitoit de l'interet du moment,1 краснел, взглядывая на Крюднершу,2 и несколько увивался вокруг нее".3 Можно, следовательно, думать, что в этот момент отношения поэта с хозяйкой дома дальше дружбы, несомненно, не шли. Иначе Пушкин в гостях у Фикельмон, вероятно, был бы сдержаннее.
1 (Один Пушкин был весь захвачен переживаемым им моментом (франц.).)
2 (Баронесса Амалия Максимилиановна Крюднер, внебрачная дочь баварского посланника графа Лерхенфельда.)
3 (В. Нечаева. Пушкин в письмах П. А. Вяземского к жене (1830 - 1838). "Литературное наследство", т. 16 - 18, стр. 807.)
Очень существенные сообщения П. И. Бартенева, основанные на рассказах современников поэта, приведены ниже.
Совершенно особняком стоит рассказ племянника поэта Л. Н. Павлищева. В своих воспоминаниях он категорически утверждает, что его дядя и графиня Фикельмон относились друг к другу крайне враждебно1. Автор цитирует письмо своей матери, сестры поэта, от конца декабря 1831 года, в котором последняя сообщает мужу, что госпожа Фикельмон "..не терпит, однакож, моего брата один бог знает почему". В свою очередь, мать Пушкина пишет дочери в конце 1834 года, что поэт был с женой у Фикельмон, "которую, впрочем, терпеть не может". Наконец Павлищев утверждает, что после женитьбы Дантес "продолжал танцевать и разговаривать исключительно со свояченицей на вечерах, устраиваемых "не без злостного намерения людьми добрыми" (Ольга Сергеевна называет Фикельмоншу, возненавидевшую поэта, уже гораздо прежде)".
1 (Л. Н Павлищев. Воспоминания о Пушкине. М., 1890, стр. 242, 271, 380, 426.)
Источник, казалось бы, бесспорный, и, значит, на.ше представление об отношениях поэта и графини в корне ошибочно. Оказалось, однако, что все цитаты, на которые ссылается Павлищев, сочинены им Самим. В подлинных письмах родных Пушкина, которые, к счастью, сохранились и были опубликованы, этих фраз нет. Для чего понадобилось Л. Н. Павлищеву совершить подобный литературный подлог, в свое время введший в заблуждение некоторых пушкинистов, остается непонятным.
Оставим теперь на время вопрос о личных отношениях поэта и графини Долли и взглянем на Пушкина, посетителя не официальных приемов, а гостеприимного салона посольши. Вряд ли ему были приятны встречи с некоторыми особами императорской фамилии, которые бывали там запросто1. Но там же в дружеской беседе проводили время дипломаты, придворные, дамы большого света, гвардейские офицеры, заезжие иностранцы, некоторые из русских друзей поэта - Вяземский, Жуковский, Тургенев. Пушкин всегда мог выбрать людей, с которыми ему было интересна поговорить.
1 (Император и императрица, согласно этикету, появлялись в домах Послов только в официальных случаях.)
Графиня Фикельмон, судя по всему, отличная, заботливая хозяйка. Ее дом так же уютен, как ее в основе добрая душа. Из дневника Дарьи Федоровны мы узнаем, что ее личные комнаты выходили на юг и там было много цветов. Она любила свою красную гостиную и кабинет, в котором цвели нарядные камелии, - от себя добавим: модные цветы эпохи романтизма. Там часто пили чай, а ужинали в зеленом салоне. Фикельмон принимала по вечерам. Приемы ее матери, жившей, не забудем, в том же особняке, считались почему-то "утрами", хотя продолжались от часу до четырех. Бывали, впрочем, у Елизаветы Михайловны и веселые интимные вечера. О них тоже есть упоминание в дневнике дочери.
Прекрасную характеристику собраний у Хитрово и Фикельмон оставил в "Старой записной книжке" постоянный гость и матери и дочери П. А. Вяземский1: "Вся животрепещущая жизнь европейская и русская, политическая, литературная и общественная, имела верные отголоски в этих двух родственных салонах. Не нужно было читать газеты, как у афинян, которые также не нуждались в газетах, а жили, учились, мудрствовали и умственно наслаждались в портиках и на площади. Так и в этих двух салонах можно было запастись сведениями о всех вопросах дня, начиная от политической брошюры и парламентской речи французского или английского оратора и кончая романом или драматическим творением одного из любимцев той литературной эпохи. Было тут обозрение и текущих событий; была и передовая статья с суждениями своими, а иногда и осуждениями, был и легкий фельетон, нравоописательный и живописный. А что всего лучше, эта всемирная, изустная, разговорная газета издавалась по направлению и под редакцией двух любезных и милых женщин. Подобных издателей не скоро найдешь! А какая была непринужденность, терпимость, вежливая, и себя и других уважающая свобода в этих разнообразных и разноречивых разговорах. Даже при выражении спорных мнений не было слишком кипучих прений; это был мирный обмен мыслей, воззрений, оценок - система свободной торговли, приложенная к разговору. Не то что в других обществах, в которых задирчиво и стеснительно господствует запретительная система: прежде, чем выпустить свой товар, свою мысль, справляться с тарифом; везде заставы и таможни".
1 (Впервые напечатано (без подписи автора) в журнале "Русский архив", 1877, кн. I, № 4, стр. 513 - 514. Многократно перепечатывалось.)
Пушкин, хотя он об этом и умалчивает, несомненно, был частым гостем в доме Фикельмонов. Тот же Вяземский говорит, что "их салон был также европейско-русский. В нем и дипломаты и Пушкин были дома"1.
1 (П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. VII, стр. 220.)
Как известно, отношения поэта с высшим обществом столицы, так называемым "большим светом",- это одна из больных сторон его биографии. А. С. Хомяков, по всей вероятности, преувеличивает, говоря, что Пушкина принимали в великосветских домах из милости1. Однако права гениального человека тогдашние русские верхи понимали плохо, а права старинного, но небогатого и нечиновного дворянина казались им, надо думать, недостаточными. Много дверей открывалось не перед первым поэтом России, а перед мужем блистательно красивой жены.
1 (А. С, Хомяков. Сочинения, т. VIII, М., 1900, стр. 89 - 90 (письмо к Н. М. Языкову, февраль 1837 года).)
На Западе сто с лишним лет тому назад у гения было больше прав, чем в России, а экстерриториальный особняк австрийского посла и в юридическом и в переносном смысле слова находился на западно-европейской территории. Пушкин входил в него желанным, почетным и, можно думать, любимым гостем.
Поэт был в большей или меньшей степени знаком со всем дипломатическим корпусом. Некоторые из послов и опсланников (французский - барон Барант, баварский - ргаф Лерхенфельд, вюртембергский - князь Гогенлоэ-Кирхберг, саксонский - барон Лютцероде) хорошо знали Пушкина и высоко ценили его как поэта. В особенности это адо сказать о Лютцероде, прекрасно овладевшем русским зыком и даже переводившем Пушкина. Однако, вне всяого сомнения, именно салоны Фикельмон и ее матери были для поэта главным источником сведений о западноев-опейской жизни, источником, который не могла замутить арская цензура. Там он имел даже возможность получать книги, не допускаемые к ввозу в Россию. Известно, например, что граф Фикельмон в 1835 году подарил поэту два ома "контрабанды", как он сам назвал в приложенной аписке, - запрещенные стихотворения Генриха Гейне. Посол иногда оказывал своим русским знакомым и более деликатные услуги - некоторые письма А. И. Тургенева Вяземскому, как оказывается, привозили из-за границы курьеры австрийского посольства.
Всего интереснее было бы узнать, какие же именно политические разговоры с участием Пушкина происходили в салоне графини Фикельмон. Она ведь интересовалась политикой, особенно иностранной, так же горячо, как и поэт. К сожалению, пока мы этого не знаем. Однако переписка Дарьи Федоровны с Вяземским показывает, что круг вопросов, интересовавших их обоих, был очень широк - от текущей иностранной политики до христианского социализма Ламеннэ и Лакордера1. Повторю еще раз, что эта переписка, по всей вероятности, - прообраз тех бесед, которые велись в салоне Фикельмон зачастую с участием Пушкина.
1 (О внутренней российской политике в письмах, большею частью посылавшихся по почте, естественно, не говорится.)
Как мы видели, польский вопрос в переписке друзей - одна из очень волнующих тем. В дневнике графини ему также посвящено большое число записей.
Во время польского восстания, вернее русско-польской войны 1830 - 1831 года, Пушкин мог говорить о ней с Дарьей Федоровной только во время своего короткого (всего одна неделя) пребывания в Петербурге в мае 1831 года. Зато, начиная со второй половины октября того же года, когда поэт вернулся с женой в столицу, он, бывая в салоне Фикельмон, можно думать, не раз говорил о только что закончившейся трагедии. По всей вероятности, Пушкин и графиня немало спорили. Они оказались в противоположных лагерях. Хорошо известно, что поэт, исходя из "высших" государственных интересов, как он их понимал, убежденно и страстно желал победы над поляками. Об этом вопросе как у нас, так и за рубежом (особенно в славянских странах) существует огромная литература. Надо сказать, что и среди русских его современников отношение к этим стихам было далеко не единодушным. Пожалуй, всех резче отзывается о них один из ближайших друзей Пушкина, убежденный западник и полонофил Вяземский. В своей дневниковой записи 14 сентября 1831 года он назвал "шинельными стихами" "Старую песню на новый лад" Жуковского, напечатанную вместе с обоими стихотворениями1 Пушкина в брошюре "На взятие Варшавы". Вяземский сам объяснил в дневнике значение этого выражения - "стихотворцы, которые в Москве ходят в шинели по домам с поздравительными одами". В длинном рассуждении о выигранной русскими войне он прибавляет: "Наши действия в Польше откинут нас на 50 лет от просвещения Европейского. Что мы усмирили Польшу, что нет - все равно: тяжба наша проиграна.- Для меня назначение хорошего губернатора в Рязань или в Вологду гораздо более предмет для поэзии нежели взятие Варшавы"2.
1 (Обширное исследование об откликах на эти стихотворения в России и за рубежом опубликовал В. А. Францев: Пушкин и польское восстание 1830 - 1831 года. Опыт исторического комментария к стихотворениям "Клеветникам России" и "Бородинская годовщина". В кн.: Пушкинский сборник, Прага, 1929, стр. 65 - 208.)
2 (П. А. Вяземский. Записные книжки. 1813 - 1848. М., 1963, стр. 211 - 213.)
22 сентября Вяземский в том же дневнике обрушивается на Пушкина: "Пушкин в стихах своих: Клеветникам России кажет им шиш из кармана. Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, и отвечать не будут на вопросы, на которые отвечать было бы очень легко даже самому Пушкину. За что возрождающейся Европе любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Мы тормоз в движениях народов к постепенному усовершенствованию нравственному и политическому. Мы вне возрождающейся Европы, а между тем тяготеем к ней. Народные витии, если бы удалось им как-нибудь проведать о стихах Пушкина и о возвышенности таланта его, могли бы отвечать ему коротко и ясно: мы ненавидим или, лучше сказать, презираем вас, потому что в России поэту, как вы, не стыдно писать и печатать стихи, подобные вашим (...). В "Бородинской годовщине" опять те же мысли, или же безмыслие. Никогда народные витии не говорили и не думали, что 4 миллиона могут пересилить 40 миллионов, а видели, что эта борьба обнаружила немощи больного, измученного колосса. Вот и все: в этом весь вопрос. (...) И что опять за святотатство еочетать Бородино с Варшавою? Россия вопиет против этого беззакония"1.
1 (П. А. Вяземский. Записные книжки. 1813 - 1848. М., 1963, стр. 214 - 215.)
Елизавете Михайловне Хитрово Вяземский писал 7 октября 1831 годэ, вероятно, с оказией: "Что делается в Петербурге после взятия Варшавы? Именем бога (если он есть) и человечности (если она есть) распространяйте чувства прощения, великодушия и сострадания. Мир жертвам! (...) Будем снова европейцами, чтобы искупить стихи совсем не европейского свойства. Как огорчили меня эти стихи! Власть, государственный порядок часто должны исполнять печальные, кровавые обязанности; но у Поэта, слава богу, нет обязанности их воспевать (...). Все это должно быть сказано между нами, но я был не в силах, говоря с вами, сдержать мою скорбь и негодование. Я очень боюсь, как бы при вашем пристрастии не остаться виновным перед вами в этом вопросе, для вас почти что личном; но в защиту от вас прибегаю к вашему великодушию и уверен, что найду оправдание. Во всяком случае, взываю о помощи к прекрасной и доброй посланнице. Нет, говорите, что хотите, но не в наши дни идти искать благородных откровений в поэзии штыков и пушек (...)"1.
1 ("Русский архив", 1895, кн. II, стр. 110 - 113. В публикации приведи также французский текст подлинника. Перевод оказался точным.)
Стихотворения Пушкина, о которых идет речь, вызвали совершенно различные отзывы его друзей. А. И. Тургенев, как и Вяземский, отнесся к ним резко отрицательно. П. Я. Чаадаев 18 сентября, наоборот, написал поэту восторженные строки: "Вот, наконец, вы национальный поэт; вы, наконец, нашли свое призвание. Особенно изумительны стихи к врагам России; я вам это говорю. В них мыслей больше, чем было сказано и создано у нас в целый век".
Многие известные и малоизвестные лица, близкие друзья Пушкина и просто знакомые сочли нужным высказаться по поводу стихотворений Пушкина, так оглушительно прозвучавших в то тревожное время.
Полемика была жаркая и, что самое примечательное, она, на разных языках, продолжается иногда и в наши дни.
Вернемся, однако, к "прекрасной и доброй посланнице", к помощи которой взывал Вяземский.
Можно было ожидать, что графиня Фикельмон, так ратовавшая впоследствии против всех национальных восстаний в Австрийской империи, сойдется во взглядах с поэтом. Действительность, однако, оказалась иной. 13 октября 1831 года Дарья Федоровна пишет Вяземскому: "Если бы вы были для меня чужим, безразличным, если бы я не имела к вам тени дружбы, дорогой князь, все это исчезло бы с тех пор, как я прочла ваше письмо к маме по поводу стихов Пушкина на взятие Варшавы. Все, что вы говорите, я думала с первого мгновения, как прочла эти стихи. Ваши мысли были до такой степени моими в этом случае, что благодаря одному этому я вижу, что между нами непременно есть сочувствие. Но это было даже излишним, потому что издавна я восхищаюсь в вас еще в тысячу раз больше, чем вашим умом - благородной душой, горячим сердцем и пониманием всего, что справедливо и прекрасно. Когда вы вернетесь, мы вволю поговорим обо всем, что это неожиданное стихотворение внушило вам!"1
1 (Перевод вводной части письма, относящейся к Пушкину (за исключением фразы "Но это было даже излишним..." и т. д.), дан по тексту "Литературного Наследства", т. 58, стр. 106 с небольшими изменениями.)
Резкое недовольство, вернее, негодование, по поводу "Бородинской годовщины", надо сказать, вполне согласуются с тем, что графиня Фикельмон писала Вяземскому во время войны, и с ее дневниковыми записями.
Дарья Федоровна, несомненно, сочувствовала полякам, хотя в рядах сражавшихся с ними русских войск были ее родственники Тизенгаузены и многочисленные знакомые - гвардейские офицеры. Событиям в Польше посвящено множество записей. Русско-польская война ее глубоко волновала, но больше с моральной, чем с политической стороны. Графиня Долли прежде всего тяжело переживала пролитие крови. На поляков, среди которых у нее тоже было немало великосветских друзей и знакомых, Фикельмон смотрела как на угнетенную героическую нацию, которая доблестно ведет безнадежную, по существу, борьбу.
В возможность успеха восстания она, вероятно, отражая мнение мужа, с самого начала не верила. Еще 25 января 1831 года графиня записывает: "Если они будут хорошо драться, они прольют много русской крови, но исход борьбы несомненен!"
"Нельзя без боли присутствовать при этой агонии народа! В особенности сейчас, когда они сражаются, как герои, разве можно отказать им в симпатии, в восхищении" (16 февраля).
Чувства графини Долли, по-видимому, разделяла и жена Николая I: "Императрица печальна, потому что всецело женщина, у нее доброе и любящее сердце. Ее хорошо приняли в Варшаве, ей там понравилось, кровопролитие заставляет ее содрогаться, и она жалеет все жертвы" (24 февраля).
"Целая нация в агонии, тысячи героев умирают со славой, а остальные гибнут от холеры и голода. Вот состояние этой несчастной Польши, о душераздирающей и ужасной катастрофе которой в истории никогда не будут читать без слез; (...). Кончится все это, без всякого сомнения, полным триумфом России, но каким триумфом, великий боже!" (20 апреля).
Но, восхищаясь отчаянным сопротивлением поляков, Дарья Федоровна отдавала порой должное и геройству русских войск. Флигель-адъютант ротмистр князь Суворов, внук великого полководца, примчался в Царское Село с известием о взятии Варшавы 4 сентября, а десять дней спустя Фикельмон записывает: "Варшава была взята и оккупирована (prise et occupee) фельдмаршалом Паскевичем после блестящего дела (un fait d'armes brillant); три линии окопов, прикрывающих город, были взяты штыковой атакой. Русские войска проявили высокую доблесть и покрыли себя славой в этом ожесточенном сражении, которое продолжалось сорок восемь часов; в этом положении, имея противника у ворот города и в таких превосходных силах, поляки во время начатых переговоров требовали еще старых границ. Наконец, возможно для того, чтобы избежать разграбления, Варшава сдалась, армия заключила род капитуляции, но не безусловной; она вышла через Прагу, направляясь в Плоцк (...). Фельдмаршалу Паскевичу пожалован титул князя Варшавского, и один этот титул увековечивает память об этой гражданской войне и делает из нее войну завоевательную".
Очень мрачно смотрит Фикельмон на будущее русско-польских отношений. "И какая польская душа теперешнего поколения и того, которое за ним последует, сможет желать примирения с Россией",- записывает Дарья Федоровна в тот же день, 14 сентября 1831 года. И снова, в который уже раз, приходится сказать, что прозорливость не обманула сивиллу - теперь уже петербургскую. "Следующим поколением" были повстанцы 1863 года...
Враждебности к русским в ее записях нет, но государственные интересы России, которые так волновали поэта в связи с польской войной, графине Фикельмон в это время, видимо, совершенно чужды.
За кем останется Волынь? За кем наследие Богдана? Признав мятежные права, От нас отторгнется ль Литва?
- эта патриотическая тревога поэта, которую разделяли и ссыльные декабристы, для молодой посольши была непонятна.
Мы не знаем, что говорила она о "неожиданном стихотворении" Вяземскому, который приехал из Москвы только
25 декабря. С Пушкиным она встретилась много раньше.
26 октября поэт был с женой у Фикельмонов на большом вечере, но, вероятно, он навестил свою приятельницу несколькими днями раньше - сейчас же после возвращения из Царского Села.
Поэт и графиня, вероятно, горячо спорили о "Бородинской годовщине". Спорили, но не поссорились - в салоне Фикельмон, как мы знаем, свобода мнений была традицией. Война к тому же кончилась - друзья-противники скорее всего вместе возмущались тем, что творилось в Польше. Пушкин ведь надеялся на великодушие победителей.
В боренье падший невредим; Врагов мы в прахе не топтали...
Великодушия проявлено не было. Началась царская расправа с поляками, которой поэт, конечно, никак не сочувствовал.
А графиня Фикельмон, в другое время, как и ее муж, убежденная поклонница Николая I, сразу нашла для него в дневнике жестокие слова: "... я даже скажу здесь - мой независимый ум видит в нем деспота и, как такового, я его сурово осуждаю без всякого ослепления..." (28 сентября). Дальше, правда, следует ряд оговорок, но слово "деспот" произнесено, и оно осталось в недоступной для царских жандармов тетради.
Итак, в своем отношении к преследованиям поляков после окончания военных действий друзья-противники, несомненно, были заодно. Однако великий патриот Пушкин и Дарья Федоровна Фикельмон, быть может, самая незаурядная женщина из всех его приятельниц, резко расходились в отношении к самой русско-польской войне.
Было бы, однако, крупной ошибкой понимать это расхождение слишком упрощенно. Пушкин горячо желал победы русских войск над вооруженными силами восставшей Польши, но врагом поляков он не был. В плане идеальном он вообще не был врагом какого бы то ни было народа. Дружил с великим польским поэтом Мицкевичем. В стихотворении "Он между нами жил...", написанном в 1834 году, когда Мицкевич, находясь в эмиграции, выпустил книгу стихотворений, часть которых содержала едкие нападки на Россию и русских, Пушкин с грустью вспоминает о вдохновенной петербургской импровизации Мицкевича, возвещавшего будущее братство народов:
Он говорил о временах грядущих, Когда народы, распри позабыв, В великую семью соединятся. Мы жадно слушали поэта...
Пушкин, несомненно, разделял мечты своего польского собрата, видя в них отдаленный, но все же осуществимый идеал. Не чужда была поэту, живо интересовавшемуся славянскими делами, и более конкретная мысль о возможности объединения всех славян. "Славянские ручьи сольются ль в русском море?"
Пушкин думал, конечно, не о том, что славянские народы могут когда-нибудь добровольно подчиниться русскому самодержавию. Думал о судьбах грядущей освобожденной России...
Но эти думы были в плане идеальном. В плане реальном великий реалист Пушкин видел, что польские повстанцы борятся не только за свободу своей родины, но в то же время намереваются снова отторгнуть исконные русские земли, некогда порабощенные Полыней. Руководители польского восстания претендовали на включение в состав Польши не только литовских, но также и украинских и белорусских земель вплоть до Днепра. К победившей Польше должен был отойти и Киев... С подобной мыслью Пушкин примириться не мог и, оставаясь другом свободы, он желал решительной победы русской армии.
Александр Сергеевич в этом отношении не был одинок. Ближайшие друзья поэта - Вяземский и А. И. Тургенев пораженцами не были, но можно думать, что сокрушительного успеха русскому оружию они не желали. Вероятно, удовлетворились бы компромиссным миром... Наоборот, философ и писатель П. Я. Чаадаев, адресат пламенных стихов Пушкина:
Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья Напишут наши имена!
Чаадаев, прочтя "Клеветникам России" и "Бородинскую годовщину", написал, как мы знаем, автору восторженное письмо, именуя его "национальным поэтом". Взгляды Пушкина разделяли и многие другие друзья свободы, в том числе сосланные в Сибирь декабристы.
Итак, Пушкин, горячо защищая государственные интересы России, как он их понимал, отнюдь не стал, говоря современным языком, шовинистом, ура-патриотом. Достаточно напомнить стихи "Бородинской годовщины", в которых поэт говорил о своем отношении к побежденным:
Мы не сожжем Варшавы их, Они народной Немезиды Не узрят гневного лица И не услышат песнь обиды От лиры русского певца.
Было бы также ошибкой принимать несомненные симпатии графини Фикельмон к полякам за приверженность к идеям политической свободы. Дарья Федоровна, особенно в позднейшие годы, обладала, как я показал, сильно выраженным чувством реальности в политических вопросах. Она, в частности, очень ясно сознавала необратимость многих политических процессов. Одно время ее привлекали идеи католического социализма. Однако по своим личным убеждениям она прежде всего была аристократкой, как правило, враждебно относившейся к освободительным национальным движениям. Во время революции 1848 года она, например, ни в малой степени не сочувствовала ни чехам, ни венграм, боровшимся против австрийского централизма.
Чем же в таком случае объяснить ее полонофильские симпатии?
Заметим, что молодой возраст посольши (во время восстания ей было 26 - 27 лет) вряд ли мог сыграть в этом отношении сколько-нибудь значительную роль. Долли Фикельмон и в начале петербургского периода своей жизни была уже духовно вполне сложившимся человеком.
Пока не опубликованы петербургские депеши посла Фикельмона и его частные письма к канцлеру Меттерниху, нельзя поэтому сказать, в какой мере он мог влиять на взгляды молодой жены во время польского восстания. Фикельмон был последовательным руссофилом, и это привело в конце концов к краху его политической карьеры.
На мой взгляд, источники полонофильских настроений Долли Фикельмон надо искать не здесь.
Нельзя забывать, что патриотическая тревога Пушкина была ей совершенно чужда. Впоследствии она постепенно сама стала мыслить как русская патриотка, но это произошло много позже и ярче всего сказалось во время Крымской войны. В 1830 - 1831 гг. Фикельмон - образованная, очень культурная европейская женщина, но ее духовная связь с родиной, которую она почти не знает, очень слаба. Почти совсем забыла она и родной язык.
О несчастиях поляков, в успех которых Фикельмон с самого начала не верила, скорбит не русская женщина-патриотка, а просто добрая женщина, "всецело женщина", как Дарья Федоровна назвала, императрицу Александру Федоровну, с которой у нее были дружеские отношения. Обе они ужасались пролитию крови независимо от того, кто и во имя чего ее лил. То же чувство ужаса перед кровопролитием разделяла с ними и Елизавета Михайловна Хитрово, в отличие от дочери всегда бывшая убежденной русской патриоткой.
В данном случае и она "всецело женщина".
Прибавим еще, что Долли Фикельмон - женщина, настроенная весьма романтически (начало тридцатых годов - время расцвета романтизма),- не может она не восхищаться героизмом небольшой нации, которая поднялась против огромной, мощной Российской империи. Говоря вообще, симпатии Дарьи Федоровны к полякам носят не политический, а, скорее, этический характер. Некоторую роль играют в ее настроениях и личные дружеские связи с рядом знатных польских семей, прочно вошедших в высшее петербургское общество.
Сложность натуры Долли Фикельмон, о которой я уже не раз упоминал в этой книге, проявилась, однако, и во время русско-польской войны,- жалея поляков и восхищаясь их героизмом, она не питает вражды и к русской армии, которая ведет с ними жестокую войну. Было бы, конечно, трудно ожидать иного отношения к русским воинам со стороны дочери Елизаветы Михайловны Хитрово и внучки Кутузова. Однако в своих дневниковых записях она идет много дальше. С восхищением пишет о доблести русских войск, которые при взятии Варшавы "покрыли себя славой в этом сражении". Романтически настроенная Фикельмон умеет ценить воинскую доблесть и поляков и русских.
Можно таким образом думать, что в спорах по поводу "Бородинской годовщины" Пушкин и Долли Фикельмон кое в чем и сходились.
В конце сентября - начале октября 1831 года Пушкин писал Е. М. Хитрово из Царского Села в Петербург (как всегда, по-французски): "Спасибо, сударыня, за изящный перевод оды - я заметил в нем две неточности и одну описку переписчика. (Иссякнуть)1 - означает tarir; (скрижали)- tables chroniques. (Измаильский штык) - штык Измаила, а не Измайлова".
1 (Набранное в скобках - в подлиннике по-русски.)
По мнению комментатора этого письма, "... предположение, невольно возникающее при первом взгляде,- что переводчиком была сама Е. М. Хитрово,- маловероятно: слишком краток, небрежен и сух отзыв Пушкина о переводе". Комментатор считает, однако, возможным "... что Е. М. Хитрово сообщила его Пушкину, как анонимный - и тогда не исключается предположение об ее авторстве".1
1 (Письма к Хитрово, стр. 133.)
Н. Каухчишвили, изучившая, как уже было упомянуто, донесения Фикельмона Меттерниху, которые хранятся в Государственном архиве в Вене, обнаружила там интересное частное письмо графа Шарля-Луи к канцлеру от 2(14) ноября 1831 года. Фикельмон приводит в нем слова графа А. Ф. Орлова, сказанные им царю в начале польского восстания: "Не забудьте, государь, что за вами сорок миллионов русских, которые веками воевали с поляками и имеют перед вами больше прав, чем четыре миллиона поляков". Эти свои слова Орлов повторил Фикельмопу. По словам Н. Каухчишвили, "чтобы подчеркнуть, что мнение Орлова не является изолированным фактом, посол прибегает к авторитету Пушкина". Далее исследовательница приводит выдержку из письма Фикельмона к Меттерниху: "Такая же мысль отразилась в стихах Пушкина, верный перевод которых я здесь присоединяю. Они были написаны в Царском Селе и были одобрены императором. Благодаря этому они еще более привлекают внимание".1
1 (Дневник Фикельмон, стр. 51 - 52. Перевод М. И. Гиллельсона.
Посол не ошибается - обе оды Пушкина и стихотворение Жуковского "Старая песня на новый лад" были представлены Николаю I - 5 сентября 1831 года. 14 сентября они уже вышли в свет в виде брошюры "На взятие Варшавы".)
В приложении к своей книге Н. Каухчишвили опубликовала упомянутый ею перевод "Клеветникам России", который сделан прозой и озаглавлен "Aux calomniateurs de la Russie".1 По ее мнению, этот гладкий перевод "не представляет особой литературной ценности". Он переписан не рукой Фикельмона (по всей вероятности, кем-либо из чиновников посольства.- Н. Р.). Имя переводчика не указано, но Н. Каухчишвили считает, что это и есть перевод, сделанный некогда Е. М. Хитрово и. исправленный Пушкиным.
1 (Дневник Фикельмон, стр. 202 - 203.)
Находка неутомимой исследовательницы представляет, во всяком случае, несомненный интерес, так как посланный Пушкину в 1831 году текст оставался до наших дней неизвестным. Остановимся поэтому на ней несколько подробнее.
Что можно сказать о французском тексте, представленном канцлеру Меттерниху?
Он, действительно, не представляет литературного интереса - гладкий, но бесцветный, скучный стиль и отдаленно не передающий пафос и блеск пушкинской оды... Однако литературно бездарный перевод почти безупречен в отношении формальной точности. В нем есть, правда, одна весьма грубая ошибка, но, по , всей вероятности, налицо лишь незамеченная опечатка. В стихе "От потрясенного Кремля" пропущено трудное в данном случае для перевода прилагательное "потрясенного".
1 (Стих "Вопрос, которого не разрешите вы", переведен: "Се n'est pas a nous a decider cette. question". ("He нам разрешить этот вопрос"). Достаточно, однако, в слове "nous" вместо "п" поставить "v", и перевод станет правильным.)
В остальном, на мой взгляд, текст формально точен грамматически правилен, но как раз эта правильность говорит против авторства Е. М. Хитрово. Так писать она не умела - темпераментные французские фразы Елизаветы Михайловны зачастую далеки от грамматических норм.... Скорее можно предположить, что автором перевода является кто-либо из литераторов - друзей Хитрово, к которому она обратилась за помощью. Очень зато вероятно предположение Н. Каухчишвили о том, что перевод сделан по инициативе Ш.-Л. Фикельмона, желавшего представить Меттерниху как можно более точный текст одобренного царем стихотворения. Вполне возможно, что посол обратился с этим делом к своей теще Елизавете Михайловне Хитрово, литературные связи которой были ему хорошо известны.
Н. Каухчишвили приводит также убедительное доказательство в пользу того, что найденный ею перевод идентичен с тем, который Хитрово некогда послала Пушкину. Отмеченные им неточности исправлены в венском тексте именно так, как посоветовал поэт.
Можно считать, что вопрос об авторе перевода, в конце концов, является второстепенным. Несомненно и существенно то, что знаменитая пушкинская ода "Клеветникам России" была сообщена австрийским послом одному из тогдашних руководителей европейской политики, канцлеру Меттерниху.
Прибавлю еще, что, вопреки мнению Н. Каухчишвили, на мой взгляд, так взволновавшую графиню Фикельмон оду "Бородинская годовщина" она могла все же прочесть (вероятно, с помощью матери) не в неизвестном нам переводе, а в подлиннике. Вспомним о том, что в это самое время она собиралась, без помощи учителя, читать порусски "Адольфа" Бенжамена Констана, а ведь страницы этого психологического романа никак не легче четких и ясных стихов оды...
В салонах Хитрово и Фикельмон наряду с обсуждением политических событий разговоры о литературе (скорее, правда, европейской, чем отечественной), несомненно, велись очень часто. К сожалению, конкретных сведений об этих беседах у нас нет. Даже поэт, литератор и мемуарист П. А. Вяземский говорит о них лишь в очень общей форме. Тем ценнее несколько строк из письма близкого друга графини Долли, бывшего секретаря Нидерландской миссии О'Сюлливан де Грасс, найденного Н. Каухчишвили в архиве Фикельмонов в Дечине.1 Узнав о смерти поэта, он пишет графине Долли 9 апреля 1837 года: "Несколько месяцев тому назад мне вспомнилась небольшая история, которую Пушкин мне рассказал как-то вечером в Вашем салоне; я решил развить ее и положить в основу новеллы, в которой мог бы запечатлеть некоторые воспоминания о России. Когда-нибудь, любезная графиня, я надеюсь прочесть Вам этот маленький роман, если я его закончу, и он составит пару с тем, заглавие которого Вы мне дали. Этот же будет назван: Политика и поэзия, предмет достаточно широкий, как Вы видите"2.
1 (Н. Каухчишвили обнаружила там ряд весьма интересных писем этого дипломата.)
2 (Дневник Фикельмон, стр. 58. Перевод М. И. Гиллельсона.)
Итак, в какой-то вечер, быть может, в красной гостиной, где , всегда было полно цветов, Пушкин беседовал с О'Сюлливаном и рассказал ему некую историю, которую молодой тогда дипломат намеревался впоследствии развернуть в повесть. Попытаемся установить, когда же мог состояться этот разговор.
После отделения Бельгии от Голландии О'Сюлливан не пожелал оставаться на голландской службе и 14 августа 1831 года уехал в Бельгию, к большому огорчению Долли Фикельмон. По ее словам, "В течение целого года мы видели его ежедневно (...)".1 В 1831 году Пушкин мог встретиться у Фикельмонов с Сюлливаном только в течение одной недели (18 - 25 мая). Гораздо вероятнее, что их разговор произошел в 1830 году либо в январе-феврале, либо во время короткого летнего пребывания поэта в Петербурге (19 июля - 10 августа).
1 (Там же, стр. 168.)
Было бы, конечно, очень интересно разыскать архив О'Сюлливана или, по крайней мере, его повесть, основанную на рассказе Пушкина. Зарубежные литературоведы (особенно бельгийцы или французы), вероятно, смогли бы предпринять такие поиски с немалой надеждой на успех.1
1 (А. О'Сюлливан де Грасс (1798 - 1866) при содействии графа Фикельмона, рекомендовавшего его Меттерниху, в 1834 году был назначен бельгийским поверенным в делах в Вене (позднее получил ранг посланника). Он оставался на этом посту в течение ряда лет. Д. Ф. Фикельмон в письмах к сестре не раз упоминает о встречах с О'Сюлливаном. 26 апреля 1848 года она с большой грустью сообщает о смерти его жены, с которой была в дружеских отношениях.
О'Сюлливан писал и стихи. По словам Н. Каухчишвили, в тетради графини 1831 года имеются два его стихотворения, посвященных Фикельмон. Известно также его стихотворение (конечно, французское) "Волосы Вероники", прочитанное на костюмированном балу у великой княгини Елены Павловны 4 января 1830 года.)
IV
Постоянными посетителями салона Фикельмон были В. А. Жуковский и А. И. Тургенев.
А. В. Флоровский указывает в своей работе,1 что "...в дневнике графини Долли при ряде упоминаний о Вяземском лишь однажды говорится о А. И. Тургеневе, совсем нет упоминаний о Жуковском (...)". Последнее неверно,- как мы увидим, Дарья Федоровна говорит о Жуковском в связи с кончиной Пушкина, но о характере ее отношений и с ним и с Тургеневым документальных данных мы до сих имеем не много.
1 (Флоровский. Дневник Фикельмон, стр. 80.)
Среди неопубликованных материалов ИРЛИ (Пушкинского Дома) имеется 2 письма Фикельмон к В. А. Жуковскому, 6 писем к А. И. Тургеневу и печатное приглашенние от Фикельмонов, адресованное ему же. Кроме того, Сильвия Островская опубликовала в подлиннике и чешском переводе два письма Жуковского к графине,1 пока не использованных советскими литературоведами. Эти документы, по-видимому, являются лишь фрагментами переписки Фикельмон с обоими писателями - ряд писем до нас, несомненно, не дошел.
1 (SylvieOstrovskЈ. Dopisy V. A. Zukovskeho a P. A. Vjazemskeho v Cechach. (Письма В. А. Жуковского и П. А. Вяземского в Чехии). "Ceskoslovenska Rusistika", 1961, № 1, стр, 162 - 167.)
К петербургскому периоду жизни Фикельмон относится только одна ее недатированная записка к Жуковскому:
"Дорогой Жуковский
В среду вечером у меня будет 200 человек, среди которых я очень хотела видеть также и вас. Но ввиду того, что там я вас почти не увижу, то это, если вам угодно, будет только задатком посещения, которое вы мне обещали! Могу я вас об этом просить?
Долли Фикельмон
Понедельник".
Его Превосходительству Господину Жуковскому.
Записка, вероятно, относится к началу знакомства, но и тон ее и подпись уменьшительным именем говорят за то, что в это время Жуковский и графиня Фикельмон были, по крайней мере, хорошими знакомыми.
Письмо Жуковского, найденное Сильвией Островской в Дечине и ею опубликованное, позволяет уже говорить об их дружбе. Подписи Василия Андреевича почему-то нет, но, по утверждению публикатора, почерк его. На письме имеется отметка "От Ж. из Крыма 1832".
"Ваше прелестное письмо, графиня,- пишет Жуковский,- я получил в Севастополе. Оно было мне вручено в тот момент, когда я уезжал в монастырь св. Георгия. Это здание, замечательное по своему расположению и связанными с ним античными воспоминаниями, приобрело в последнее время роковую известность, так как император Александр схватил там простуду, которая привела его к смерти. Ведущая туда дорога проходит по безлюдной пустыне, почти плоской и густо поросшей выжженной солнцем травой; ничто там не радует глаз и даже не привлекает внимания. Но благодаря вашему письму и очаровательной Griseldis (Гризельде?)1 эта пустыня показалась мне зачарованной; и дойдя до цели пути, я почувствовал себя вдвойне подготовленным к созерцанию величественной картины пенящегося моря у подножия утеса, на вершине которого некогда стоял храм Дианы, замененный теперь скромной христианской церковью. Благодарю вас, графиня, за то, что вы были со мной среди этих прекрасных сценариев. Ваш образ создан для того, чтобы их одушевлять. И ваша дружба, доказательство которой я вижу в присланных вами мне строках, создана для того, чтобы быть довольным жизнью. Сохраните эту дружбу для меня, так как я знаю ей цену".
1 (Лицо не установленное.)
Не берусь судить о том, что сказал бы француз об этих строках Жуковского. Мне лично они и в подлиннике кажутся очень уж изощренным выражением искреннего, дружеского чувства.
Остальная часть письма носит деловой характер.
Графиня Фикельмон и Жуковский встречались и после отъезда Дарьи Федоровны из России. Жуковский в своем дневнике упоминает о том, что он несколько раз посещал графиню во время пребывания в Риме в конце 1838 и начале 1839 года. 14 - 26 января 1839 года он записывает: "У графини Фикельмон. Опять больна и не говорит".1
1 (Дневник В. А. Жуковского с примечаниями И. А. Бычкова. С.-Петербург, 1903, стр. 462.)
Сама Дарья Федоровна пишет об этих встречах Вяземскому из Рима 7 января 1839 года:1 "Жуковский настолько влюблен в Рим, что ему от этого двадцать лет или того меньше, если такое возможно. Он ходит туда и сюда, он в постоянном восхищении, никогда не устает и забывает обо всем, но не может утешиться от того, что нужно так скоро уезжать. Великий князь отбывает 14 января, едет на две недели в Неаполь, возвращается сюда на неделю, переезжает через Альпы в начале марта и продолжает остальную часть своего большого путешествия в Англию чрезвычайно быстро, как перелетная птица. Жуковский считает это варварством и очень опечален".2
1 (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. I, № 2939, л. 35 об.)
2 (В. А. Жуковский сопровождал своего воспитанника великого князя Александра Николаевича (будущего императора Александра И). Как видно, он относился с полным доверием к своей приятельнице Долли Фикельмон, так как, будучи опытным царедворцем, все же позволил себе критиковать план путешествия, утвержденный царем.)
В 1841 году Жуковский, разочаровавшись в великом князе, своем воспитаннике, ушел в отставку и уехал за границу. В том же году он женился на дочери немецкого художника Герхарда Рейтерна и поселился в Дюссельдорфе.1
1 (М. И. Гиллельсон. П. А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л., 1969, стр. 293.)
В августе 1844 года Долли Фикельмон встретилась с поэтом во Франкфурте и познакомилась с его молодой женой (в это время ей было всего 22 года). 29 августа она пишет сестре: "Его жена прелестна, ангел Гольбейна, один из этих средневековых образов, белокурая, строгая и нежная, задумчивая и столь чистосердечная, что она как бы и не принадлежит к здешнему миру".1
1 (Сони, стр. 73 - 74.)
Не поскупилась на эпитеты Дарья Федоровна, стойкий романтик в своих писаниях... В той же тональности, через несколько месяцев после свидания (16/28 января 1845 года) пишет графине и основатель русского романтизма Жуковский.1 Поблагодарив Фикельмон за письмо (оно до нас не дошло), он, в очень патетических выражениях, сообщает ей о рождении своего сына, "который, как звезда с неба, появился на свет в первый день года (1/13 января)". Следует ряд подробностей о состоянии здоровья новорожденного и матери, после чего Жуковский прибавляет, что его жена, как только сможет держать перо в руках, "... сама выразит вам радость, которую доставило ей ваше прелестное письмо, живо напомнившее нам обоим и вашу душу, такую добрую и ласковую, и черты вашего лица, и звук вашего голоса. Мы оба с радостью узнали, что ваши страдания уменьшились (...)".
1 (Второе письмо Жуковского, опубликованное С. Островской.)
Чтобы не наскучить читателю, нравоучительные христианские рассуждения Жуковского я опускаю. Свое письмо он заканчивает еще одним патетическим обращением: "Моя жена просит вас принять уверение в ее признательной дружбе: вы были для нее мгновенным видением, но видением, которое можно назвать откровением (...)".
Желая уточнить смысл последнего слова, поэт пишет его не по-французски, а по-немецки - "Offenbarung". Оказывается, Долли Фикельмон можно было назвать посланницей бога...
В архиве Пушкинского Дома хранится еще одно письмо графини Долли к Жуковскому.1 Оно, по-видимому, не является запоздалым ответом на предыдущее письмо поэта:
"Карлебад, 1 июля 1845 г.
Мой дорогой Жуковский
1 (ИРЛИ, 28305 ССб. 168 (шифр общий для обоих писем коллекции Пушкинского Дома).)
Андрей Муравьев, должно быть, уехал куда-то на Рейн,- если вы о нем услышите, перешлите ему, пожалуйста, прилагаемое письмо. Это ответ, который я ему должна".
Из дальнейшего текста письма следует, что Жуковский недавно встретился с графом Фикельмоном. Упомянув о слабом здоровье мужа, Дарья Федоровна продолжает: "Напишите мне о вашей милой и симпатичной жене, о ваших милых маленьких детках - поцелуйте их нежно за меня. Часто думаю о вашем красивом счастье, о котором рада была узнать. Не забывайте меня, дорогой Жуковский, у меня к вам нежная дружба! (...)"
В данном письме интересно упоминание графини Долли о ее переписке с Андреем Муравьевым. Это, несомненно, поэт и писатель по религиозным вопросам - Андрей Николаевич Муравьев (1806 - 1874), знакомый Пушкина. Вероятно, Фикельмон знала его еще в Петербурге, где Муравьев служил сначала в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел, затем в Синоде. В дневнике графини его фамилия не упоминается.
Это письмо - последний известный пока фрагмент переписки Фикельмон и Жуковского. Узнав о смерти старого поэта, графиня написала о ней сестре 6 мая 1852 года всего две строчки: "Смерть Жуковского меня очень огорчила, и я понимаю, что императрица скорбит о ней".1
1 (Сони, стр. 368.)
Письма, которые я привел, несомненно, говорят о том, что графиня Фикельмон считала Жуковского своим другом. По всей вероятности, однако, права Н. Каухчишвили, по мнению которой это не была та близкая, задушевная дружба, которая установилась у Дарьи Федоровны с Вяземским и Пушкиным.1
1 (Дневник Фикельмон, стр. 72.)
В печатных источниках сведений о знакомстве Д. Ф. Фикельмон с Александром Ивановичем Тургеневым, за исключением их встреч в 1837 году, имеется не много. Представляют поэтому интерес шесть писем и записок графини Долли к Тургеневу, хранящиеся в Пушкинском Доме, хотя содержание их и малозначительно. Остаются, к сожалению, неизвестными ее "поэтические строки" в письме "о поэтической. Италии", которыми восхищался Александр Иванович в письме к Вяземскому. Были, по всей вероятности, и другие не дошедшие до нас послания графини к просвещенному путешественнику А. И. Тургеневу, который провел за границей очень значительную часть своей жизни, всюду разыскивая исторические материалы, касающиеся России. Он же, поскольку это было возможно в условиях николаевской России, широко и умело знакомил в своих письмах русских читателей с жизнью Запада. Будучи разносторонне образованным и очень общительным человеком, Тургенев завязал там множество знакомств с самыми выдающимися людьми своего времени. Нельзя также забывать, что Александр Иванович был одним из ближайших друзей Пушкина, хотя до самой смерти поэта они не перешли "на ты" - должно быть, мешала разница в летах. Однако уже 9 июля 1819 года двадцатилетний Пушкин пишет тридцатипятилетнему Тургеневу, в то время важному чиновнику,1 как доброму приятелю, с которым можно и пошутить: "Препоручаю себя вашим молитвам и прошу камергера Don Basile2 забыть меня по крайней мере на три месяца". Позже, 7 мая 1821 года, поэт писал Александру Ивановичу из Кишинева: "Верьте, что где бы я ни был, душа моя, какова ни есть, принадлежит вам и тем, которых умел я любить".
1 (В 1824 году Тургенев за свои либеральные взгляды был уволен в отставку и до конца жизни находился в полуопальном положении. К движению декабристов он не примкнул, но являлся убежденным противником крепостного права.)
2 (Именем Дон Базилио, хитрого и фальшиво-набожного персонажа из знаменитой комедии Бомарше "Севильский цирюльник", Пушкин, по мнению комментаторов, обозначил, вероятно, тогдашнего министра духовных дел и народного просвещения князя А. Н. Голицына. А. И. Тургенев состоял в это время директором департамента этого министерства.)
Яркая личность А. И. Тургенева не могла не заинтересовать Фикельмон. Александр Иванович был к тому же, как и Пушкин, блестящим собеседником, а графиня Долли, как видно из ее дневника и писем, особенно ценила это качество в своих друзьях и знакомых.
В те годы, когда Фикельмон состоял послом в России, А. И. Тургенев бывал в Петербурге только наездами, После отозвания графа Шарля-Луи Александр Иванович неоднократно ездил в Германию и во Францию, но в Австрии, по-видимому, бывал только проездом. Сведений об егб встречах с супругами Фикельмон за границей нет. Таким образом, непосредственное общение Тургенева с графиней Долли, как кажется, ограничивается только Петербургом. В эти годы он приезжал на некоторое время в столицу четыpe раза.1 Перечислим его наезды в последовательном порядке:
1 (Сведения о наездах А. И. Тургенева в Петербург и его заграничных путешествиях заимствованы мною преимущественно из статьи М. Гиллельсона. А. И. Тургенев и его литературное наследие. В ки.: А. И. Тургенев. Хроника Русского. Дневник (1825 - 1826). М.-Л., 1964, стр, 441 - 504.)
1) В 1831 году, возвращаясь из Англии, Тургенев короткое время пробыл в Петербурге в июне месяце. 27 июня он уже в Москве.
2) 4 апреля 1832 года выехал из Москвы в Петербург. 18 июня, прожив в столице два с половиной месяца, уехал на пароходе за границу. После короткого пребывания 8 Германии и Австрии провел десять месяцев в Италии.
3) В середине мая 1834 года Александр Иванович вернулся в Россию (не через Петербург). Туда он приехал в начале октября и 11 декабря снова вернулся в Москву. На этот раз он снова пробыл в Петербурге два с половиной месяца. В конце января 1835 года Тургенев уехал в очередное заграничное путешествие.
4) После длительного пребывания в Италии, Франции и Англии Тургенев лишь летом 1836 года возвращается в родную Москву. 26 ноября этого года, незадолго до гибели Пушкина, он приезжает в Петербург и остается там до конца июня 1837 года. Это было его самое долгое пребывание в столице в те годы, когда Фикельмон состоял послом в России. Оно продолжалось целых семь месяцев.
В общей сложности его встречи с графиней Долли продолжались всего один год (не считая короткого, как полагают биографы, пребывания в столице в 1831 году).
Я привел эту схему петербургских наездов А. И. Тургенева, так как она, до известной степени, поможет нам разобраться в неопубликованных письмах графини Фикельмон к Александру Ивановичу, хранящихся в Пушкинском Доме. Начнем с французского пригласительного билета, который сохранил неутомимый путешественник.1 Текст печатный (гравированный), слова, набранные курсивом, вписаны от руки:
Граф и графиня Фикельмон просят
господина Тургенева
сделать им честь провести у них вечер в следующее воскресенье 24 апреля в 10 часов.
RSVP2
1 (ИРЛИ. Архив бр. Тургеневых, ф. 304, № 325.)
2 (Reponse s'il vous plait - просим ответить (общепринятая и в настоящее время на Западе светская формула).)
На первый взгляд, этот пригласительный билет не представляет никакого интереса. Работая в архиве, я даже сомневался, стоит ли его переписывать. Решил все же выяснить, в какой свой приезд А. И. Тургенев получил это приглашение, - иногда и мелочи бывают полезны. Выбор казался простым - 24 апреля Тургенев был в Петербурге в 1832 и 1837 годах. Оказалось, однако, что в 1832 году соответствующее число апреля пришлось на вторник, а в 1837 году - на понедельник. На всякий случай я обратился и к 1831 году. Выяснилось, что именно в этом году 24 апреля было воскресенье.
Предположить ошибку в тексте приглашения вряд ли возможно, тем более, что 24 июня 1831 года Александр Иванович уже находился в пути - ехал в Москву. Приходится таким образом считать, что он прибыл в Петербург не в июне, а около апреля, и его пребывание в столице продолжалось не несколько дней, а около двух месяцев.
Графиня Фикельмон, во всяком случае, познакомилась с А. И. Тургеневым еще в 1831 году. В письме к ней из Остафьева от 5 июля П. А. Вяземский сообщает: "Александр Тургенев, который приехал провести со мной несколько дней в деревне, поручает мне Вам кланяться и передать Вашей матушке, что он всецело занят неким письмом о воспитании".1
1 (По всей вероятности, Вяземский имеет в виду записку "О народном воспитании", составленную Пушкиным по заданию Николая I в 1826 году. Тургенев не мог с ней ознакомиться раньше, так как с середины июля этого года он непрерывно жил за границей, а поручение царя было передано Пушкину шефом жандармов А. X. Бенкендорфом 30 сентября 1826 года.)
О том, что А. И. Тургенев и Долли Фикельмон встречались еще в 1831 году, свидетельствует и одно из недатированных писем графини:1 "Вот, дорогой Тургенев, письма Курье, прошу прощения за то, что задержала так долго. Сегодня я переезжаю на Острова, но надеюсь, что вы не уедете, не навестив меня хотя бы ненадолго. Вы должны были бы также съездить к маме, которая все еще состоит сиделкой.
1 (ИРЛИ. Архив бр. Тургеневых, ф. 309, № 3748.)
Среда.Графиня Фикельмон".
В письме к Вяземскому от 13 октября 1831 года Дарья Федоровна упоминает о том, что она читает "в данное время письма Курье", которые она, очевидно, получила от Тургенева в июне или раньше. Вернула она их Александру Ивановичу только в следующий его приезд - в 1832 году. Фикельмоны обычно переезжали на дачу в начале июня. Тургенев уехал за границу 18 июня. Приведенное выше письмо, можно, следовательно, датировать первой половиной июня 1832 года.
Вероятно, к тому же времени относится следующая записка Фикельмон: "Прошу вас, сударь, сделать нам удовольствие отобедать у нас в следующую пятницу в пять с половиной.
Буду вам признательна, если вы не откажете в моей просьбе, так как вы намерены вскоре нас покинуть, и я хочу видеть вас почаще, пока вы будете среди нас.
Понедельник.Графиня Фикельмон".
Единственная, по словам А. В. Флоровского, запись в дневнике Дарьи Федоровны, посвященная А. И. Тургеневу, сделана 2 апреля того же года. По мнению графини, у него несомненно "много ума", "он в высшей степени культурен и вполне европеец".1 Надо сказать, что и на этот раз обычная наблюдательность графини Долли ей не изменила. Оставаясь вполне русским человеком, А. И. Тургенев, действительно, был "европейцем до мозга костей", - на мой взгляд, значительно более европейцем, чем, например, князь Вяземский, несмотря на все его тяготение к Западу... Мы видим, что еще в 1831 году А. И. Тургенев счел возможным сообщить Е. М. Хитрово, а значит, и Д. Ф. Фикельмон, что он занят таким деликатным вопросом, как записка Пушкина "О народном воспитании", предназначенная для личного сведения царя. В 1832 году он и графиня Фикельмон, несомненно, близкие знакомые, но вряд ли Дарья Федоровна в это время считает Тургенева своим другом. Характерно, что и письмо и записка подписаны "графиня Фикельмон". В переписке с друзьями своего титута она не употребляла почти никогда.
1 (Флоровский. Дневник Фикельмон, стр. 80.)
Можно думать, что десятимесячное пребывание Александра Ивановича в Италии (сентябрь 1832 - июнь 1833), откуда он, вероятно, не раз писал графине, душевно сблизило ее с Тургеневым. Ведь он побывал в ее любимом Неаполе, был и во Флоренции...
Во всяком случае, вот письмо Фикельмон, подписанное уже по-дружески: "Долли Ф.".1
1 (ИРЛИ. Архив братьев Тургеневых, ф. 309. № 3448.)
"Посылаю вам Луизу Строцци,1 которую прочла с удовольствием, беспрестанно переносясь под прекрасное небо Тосканы, которую я так люблю.
1 (Роман Джовани Розини.)
Я так рада, дорогой Тургенев, узнав, что вы выздоровели - эта гадкая нога долго лишала нас удовольствия вас видеть, а теперь, когда вы можете выходить, я не знаю, когда я смогу попросить вас ко мне прийти, так как Фикельмон по-прежнему болен. Надеюсь все же, что вскоре я смогу вас попросить уделить мне немного времени для вашей доброй и любезной беседы. В ожидании этого шлю дружеский привет.
Пятница.
Долли Ф.
Господину Тургеневу".
Упоминание о "Луизе Строцци" позволяет довольно точно датировать и это послание. Из письма Тургенева к Вяземскому от 23 октября 1834 года1 мы узнаем, что Долли Фикельмон прочла этот роман и нашла его длинным и скучным. Таким образом, письмо Дарьи Федоровны датируется октябрем этого года, так как в 1834 году Тургенев приехал в Петербург в начале данного месяца. Из вежливости Дарья Федоровна, видимо, не захотела сообщить приятелю, который привез ей итальянскую книжку, свое откровенное мнение о романе Розини. Ограничилась тем, что роман напомнил ей любимую Тоскану, где, как мы знаем, кончилось ее детство и началась юность. Вероятно, сказала правду.
1 (Остафьевский архив князей Вяземских, т. III, стр. 262.)
В архиве братьев Тургеневых есть еще две пригласительных записки с обращением "Дорогой Тургенев" и подписью "Долли Фикельмон". Вероятно, они также относятся к пребыванию Александра Петровича в Петербурге в 1834 году.
Итак, - скажем еще раз - уже в 1831 году А. И. Тургенев счел возможным сообщить Е. М. Хитрово, а, следовательно, и Д. Ф. Фикельмон, что он занят запиской Пушкина "О народном воспитании", предназначенной для царя, в 1832 году его и Дарью Федоровну следует считать близкими знакомыми. В 1834 году - они друзья.
Часть дневника А. И. Тургенева, связанная с преддуэльными месяцами, дуэлью и смертью Пушкина (с 25 ноября
1836 по 19 марта 1837) давно уже опубликована П. Е. Щеголевым.1 Очень краткие, в большинстве случаев, записи Александра Ивановича показывают, что в это время в доме Фикельмонов он - свой, близкий человек. Приехав в столицу 25 октября, 27 он уже отмечает: "У Хитровой. Фикельмон (...)". В течение шести недель (с 27 ноября 1836 по 12 января 1837) Тургенев восемь раз упоминает о встречах и разговорах с супругами Фикельмон и Е. М. Хитрово. По-видимому, из всех друзей Дарьи Федоровны, не исключая и'Пушкина, "европеизированный" ("europeise") Александр Иванович, как его называла графиня, ближе всего сошелся с ее мужем. Послу было о чем поговорить с русским человеком, уже двенадцать лет странствующим по государствам Западной Европы и жившим там годами. Приходится сожалеть, что почти все записи Тургенева так лаконичны. 8 "генваря" он отмечает, например: "Фикельмон; с ней и сестрой ее о многом; во дворце все больны; (...)". Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, о чем в тот вечер говорили Тургенев, Долли Фикельмон и ее сестра, - говорили, вероятно, наедине. В 1837 году графиня дневника почти не вела - только дуэль и смерть Пушкина заставили ее взяться за перо2.
1 (Щеголев, стр. 272 - 300.)
2 (Возможно, что существовал когда-то и дневник Екатерины Федоровны Тизенгаузен, прожившей долгую и неспокойную жизнь (1803 - 1"88). Быть может, он и в данное, время где-нибудь хранится "под спудом", но о судьбе ее бумаг сейчас мы ничего не знаем.)
Проводив к месту последнего упокоения тело великого друга, Тургенев оказал трогательную услугу Елизавете Михайловне Хитрово. 15 февраля рокового 1837 года он записывает: "Перед обедом у Хитрово... отдал Хитровой земли с могилы и веточку из сада Пушкина".
Благодаря записи А. И. Тургенева, на этот раз довольно подробной, мы знаем, как поэт провел в гостях у Фикельмонов один из последних вечеров своей жизни - 6 января 1837 года. Еще подробнее он рассказывает об этом вечере в письме к А. Я. Булгакову1 от 9 января 1837 года: "Два дня тому назад мы провели очаровательный вечер у австрийского посланника: этот вечер напомнил мне интимнейшие парижские салоны. Образовался маленький кружок, состоявший из Баранта, Пушкина, Вяземского, прусского посла и вашего покорного слуги (...). Разговор был разнообразный, блестящий и полный большого интереса, так как Барант нам рассказывал пикантные вещи о его (Талейрана) мемуарах, первые части которых он читал. Вяземский со своей стороны отпускал словечки, достойные его оригинального ума. Пушкин рассказывал нам анекдоты, черты из жизни Петра I, Екатерины II (...). Повесть Пушкина "Капитанская дочка" так здесь понравилась, что Барант предлагал автору при мне перевести ее на французский язык с его помощью (,..)".2
1 (Александр Яковлевич Булгаков (1781 - 1803), московский почт-директор.)
2 (Е. Н. Коншина. Из писем А. И. Тургенева к А. Я. Булгакову. "Московский Пушкинист", 1, стр. 34.)
Возможно, что читатель подумал сейчас - вечер 6 января 1837 года - скоро поединок. Значит, больше об отношениях Пушкина и Фикельмон говорить нечего, кроме обещанного автором разбора записи графини о его дуэли и смерти.
Нам предстоит, однако, еще вернуться назад и заняться эпизодом, совершенно неожиданным и, на первый взгляд невероятным. Регистр рассказа придется переменить - речь пойдет о происшествии чрезвычайном, но от траура, во всяком случае, очень и очень далеком...
Я не раз уже ссылался на записи первого по времени пушкиниста П. И. Бартенева, лично знавшего многих друзей и знакомых поэта. Есть у Бартенева в разных его работах несколько высказываний об отношениях поэта и графини Долли, высказываний, надо сказать, не вполне ясных.
Уже в примечаниях к отрывку из воспоминаний графа В. А. Соллогуба, опубликованному в 1865 году, мы читаем: "Вероятно, он (Пушкин) много о нем (Дантесе) наслышался от гр. Фикельмон, с которою тоже был дружен"1. По поводу донесения графа Фикельмона Меттерниху о дуэли и смерти поэта Бартенев замечает: "Обе они (Е. М. Хитрово и Д. Ф. Фикельмон) любили и почитали Пушкина, который бывал очень близок с* графиней Фикельмон"2. Позднее, вспоминая о пророческом письме графини, видевшей в лине Натальи Николаевны предчувствие грядущего горя, Бартенев говорит: "Может быть, тут действовала и бессознательная ревность, так как она, по примеру матери своей, высоко ценила и горячо любила гениального поэта и, как сообщил мне Нащокин, не в силах была устоять против чарующего влияния его".
1 (Из воспоминаний графа В. А. Соллогуба. "Русский архив", 1865, стр. 751.)
2 (П. И. Бартеиез. Рецензия на книгу III "Старины и новизны", "Русский архив", 1901, август, 1-я обложка.)
Эти не до конца понятные строки не раз цитировались пушкинистами, но никто ими ближе не занимался, хотя замечания Бартенева заслуживали самого серьезного внимания - и Нащокин и он относились к памяти поэта с благоговением. Слова свои взвешивали тщательно. Не привлекло ничьего внимания и совсем уже загадочное упоминание Петра Ивановича Бартенева, сделанное по случайному поводу, о том, что в "Пиковой даме" "есть целая автобиографическая сцена".1
1 (П. И. Бартенев. Пушкин н Великопольский. "Русский архив", 1884. кн. I. стр. 465.)
V
Перейдем теперь к рассказу П. В. Нащокина, ставшему известным лишь в 1922 году. Опубликование его одним из авторитетнейших пушкинистов, ныне покойным М. А. Цявловским,1 стало одной из сенсаций раннего советского пушкиноведения и дало начало полемике, которая и сейчас, полвека спустя, от времени до времени возобновляется.
1 (М. А. Цявловский. Пушкин и графиня Д. Ф. Фикельмон. "Голос минувшего", 1922, № 2, стр. 108 - 123. Рассказ был снова опубликован Цявловским с подробным комментарием в книге: "Рассказы о Пушкине", стр. 36 - 37, 98 - 101. С тех пор он неоднократно перепечатывался (обычно с пропусками).)
Оказалось, что П. И. Бартенев знал об отношениях Пушкина и графини Фикельмон гораздо больше, чем счел возможным сообщить в печати.
В одной из его черновых тетрадей были обнаружены среди других материалов записи бесед биографа с другом Пушкина П. В. Нащокиным, происходивших осенью 1851 года.
Приходится и сейчас считаться с тем, что некоторые подробности рассказа Нащокина - Бартенева чересчур интимны и кроме того, возможно, не совсем соответствуют действительности. За давностью времени П. В. Нащокин, вероятно, кое-что забыл, кое-что перепутал. Тем не менее, Павел Воинович, свято храня память своего великого друга, несомненно, не выдумал небылицу. То же самое надо сказать и о П. И. Бартеневе. Мы приводим их рассказ преимущественно в изложении, сохраняя его суть, но опуская ряд подробностей.
Начало записи таково: "Следующий рассказ относится уже к совершенно другой эпохе жизни Пушкина. Пушкин сообщил его за тайну Нащокину и даже не хотел первый раз сказать имя действующего лица, обещая открыть его после". Далее приводится характеристика некоей блестящей светской дамы, однажды назначившей поэту свидание в своем роскошном доме. "Пушкин рассказал Нащокину свои отношения к ней по случаю их разговора о силе воли. Пушкин уверял, что при необходимости можно удержаться от обморока и изнеможения, отложить их до другого времени".
Вечером Пушкину удалось войти незамеченным в дом и, как было условлено, расположиться в гостиной. "Наконец, после долгих ожиданий, он слышит: подъехала карета. В доме засуетились. Двое лакеев внесли канделябры и осветили гостиную" (..;). "Хозяйка осталась одна. (...)".
Дальнейший рассказ в передаче Бартенева звучит довольно пошло. Касаться его мы не будем. Существенно то, что свидание затянулось и "...когда Пушкин наконец приподнял штору, оказалось, что на дворе белый день".
Положение было крайне опасным. Прибавим от себя - все, чем жила графиня Долли, могло рухнуть в одно мгновение... Она попыталась сама вывести Пушкина из особняка, но у стеклянных дверей выхода встретила дворецкого. Вот тут-то, по словам Нащокина, "...Пушкин сжал ей крепко руку, умоляя ее отложить обморок до другого времени, а теперь выпустить его как для него, так и для себя самой. Женщина преодолела себя".
На полях тетради есть заметки, сделанные не рукой Бартенева. В них говорится о тождестве героини приключения с графиней Фикельмон, что, впрочем, и так ясно из содержания записи. Еще одна пометка гласит: "ожидание Германа в "Пиковой даме".
На первый взгляд все это приключение кажется совершенно неправдоподобным. Умная, житейски опытная женщина вдруг назначает интимное свидание у себя в посольском особняке, полном прислуги, и в ту ночь, когда муж дома. Поэт проникает туда, никем не замеченный, ждет, хозяйку, потом проводит всю ночь в ее спальне... Все это очень уж похоже на веселую, затейливую и не совсем пристойную выдумку в духе новелл итальянского Возрождения.
Неудивительно, что опубликование записи Бартенева вызвало ожесточенные споры между пушкинистами, которые время от времени возобновляются и в наши дни,1 хотя исследователи не сомневаются в том, что рассказ о приключении с графиней Долли действительно восходит к Пушкину.
1 (...которые время от времени возобновляются и в наши дни. - Из числа современных авторов с большим недоверием к истинности происшествия, о котором рассказал Нащокин, относится А. В. Флоровский. Обращаясь к дневнику графини, он справедливо замечает: "Молчание о факте не может быть опровержением самого факта". Вслед за этим автор тем не менее прибавляет: "Однако - в дневнике нет никаких следов тех переживаний, которые неминуемо должны были бы сопровождать развитие и апогей этого романа. Имя Пушкина, появляющееся на страницах дневника довольно редко, не вызывает у его автора никаких особых интонаций живого интереса или увлечения, - что казалось бы - должно неизбежно и положительно необходимо иметь место в случае достоверности этого романа, хотя бы кратковременного"2.)
2 (Флоровский. Пушкин на страницах дневника, стр. 569.)
В отношении отсутствия у графини "живого интереса" к личности Пушкина А. В. Флоровский, безусловно, ошибается. Стоит перечесть им же впервые опубликованные выдержки из ее дневника, а также письма Фикельмон к Вяземскому, чтобы убедиться в противном. Каких-либо признаков увлечения поэтом в дневнике Дарьи Федоровны, действительно, нет до 22 ноября 1832 года, но что было дальше - мы не знаем... Живой Пушкин почему-то навсегда исчезает из писаний графини Долли. Есть в них только воспоминания о погибшем поэте.
Н. Каухчишвили, внимательно изучившая литературу, которая касается спорного вопроса, выдвигает свою собственную гипотезу.1 Она разделяет высказанное многими авторами мнение о неправдоподобности ночного приключения Пушкина и Фикельмон. Исследовательница считает, что "...Пушкин питал к Долли чувства горячей симпатии, вероятно, разделяемые посольшей, но маловероятно, чтобы она решилась компрометировать себя в самом дворце посольства, где помещались также некоторые другие чиновники".
1 (Дневник Фикельмон, стр. 53 - 56.)
Надо, однако, сказать, что, по-видимому, никто из авторов, споривших о рассказанной Нащокиным истории, не обследовал "место происшествия" - скромный на вид, но очень обширный трехэтажный дом, в котором имеется около ста помещений, многочисленные лестницы, площадки, коридоры и несколько выходов на улицы. Миланская жительница Н. Каухчишвили этого, естественно, сделать не могла, так же как и А. В. Флоровский, почти полвека состоявший профессором Пражского университета.
Отметив ряд малоправдоподобных мест в рассказе друга поэта, Н. Каухчишвили продолжает: "Я допускаю, что рассказы Нащокина, который все же близко знал салоч Дарьи Федоровны, не совпадают с тем, что ему поведал Пушкин: возможно, что поэт сказал ему о том, какие чувства он питал к Дарье Федоровне, вероятно несколько их преувеличив, так что впоследствии Нащокин невольно их преувеличил еще больше (И aveva involontarimente ingigantiti)".
H. Каухчишвили, следовательно, считает, что рассказ о "жаркой истории" является плодом воображения друга Пушкина, невольно исказившего действительные слова поэта.
С этой концепцией, на мой взгляд, согласиться нельзя. Речь ведь шла не о тех или иных чувствах поэта к графине, а о совершенно определенном эпизоде, рассказанном Пушкиным. Приходится снова повторить - либо это правда, и тогда поэт допустил лишь нескромность, рассказав его другу, либо это "устная новелла", а, в действительности, клевета Пушкина на ни в чем не повинную женщину. В последнее я верить отказываюсь и считаю, что это пятно с памяти поэта надо раз навсегда смыть. Никакого среднего решения здесь быть не может.
Замечу еще, что "близко знать" салон Дарьи Федоровны П. В. Нащокин мог только со слов Пушкина (и, может быть, Вяземского). В годы знакомства поэта с Д. Ф. Фикельмон Павел Воинович не менее двух раз приезжал в Петербург, но никаких сведений о том, что он когда-либо был гостем графини, в литературе нет. Н. Каухчишвили их также не приводит.
Интересного литературного спора об автобиографическом характере одной из сцен "Пиковой дамы" (Н. Каухчишвили его категорически отрицает) я здесь касаться не могу. Этот спор мог бы послужить предметом специального исследования.
Не обнаружив в дневнике никаких следов романтического приключения графини Долли с Пушкиным, автор прибавляет все же: "Единственный элемент, который можно было бы рассматривать, как косвенное подтверждение известной внутренней" тревоги, это подавленное состояние, проявляющееся в последние недели 1832 года, однако я скорее склонна объяснять его как первый симптом болезни, которая будет ее мучить в следующие годы (...)"1.
1 (Дневник Фикельмон, стр. 56.)
Еще и еще раз приходится пожалеть о том, что Н. Каухчишвили не удалось опубликовать второй тетради дневника - было бы, в частности, существенно прочесть текст этих записей конца 1832 года. Автор приводит, правда, выдержку из той же записи 22 ноября, в которой последний раз упоминается имя Пушкина, выдержку, которая на первый взгляд может показаться многозначительной: "Не было ли бы во сто раз лучше погасить в своем сердце нежность, чем рисковать тем, что привяжешь к себе человека, который, не любя, будет только чувствовать усталость от того, что его любят".1
1 (Дневник Фикельмон, сгр. 55.)
Н. Каухчишвили, правда, считает, что в этих строках графиня Долли критикует "союзы (unione), в которых нет уверенности на будущее", но, не зная полного текста записи, можно те же строки отнести и к переживаниям самой Фикельмон. У меня, однако, имеется фотокопия соответствующих страниц первой тетради дневника (стр. 106 - 108), и из них мы узнаем, что Дарья Федоровна в данном случае имеет в виду графиню Софию Ивановну Лаваль (1802 - 1871), которая собирается выйти замуж за графа Борха.
Фикельмон не ожидает для Лаваль ничего хорошего от этого брака, так как она влюблена в своего жениха1, а тот женится на ней по расчету.
1 (Граф Александр Михайлович Борх (род. в 1804 году). Его брат граф Иосиф Борх, служивший в Петербурге, назван в пасквиле, присланном Пушкину, "непременным секретарем" "светлейшего ордена рогоносцев". В записи Фикельмон от 22 ноября есть упоминание и о М-те Борх, свояченице жениха Лаваль, которое, по всей вероятности, относится к жене этого "непременного секретаря", урожденной Любови Викентьевны Голынской, и поэтому представляет известный интерес: "М-те Борх - это маленькая хорошенькая картинка фламандской школы, по нет ничего особенно замечательного под этой беленькой и свежей оболочкой".))
Вопрос ставится иначе, не сочинил ли эту историю сам поэт? Так именно посмотрел на рассказ друга Пушкина Л. П. Гроссман1. По его мнению, "Пушкин художественно мистифицировал Нащокина, так же, как он увлекательно сочинял о себе небылицы детям, или, по примеру Дельвига, сообщал приятелям "отчаянные анекдоты" о своих похождениях". Написанная с немалым блеском статья Гроссмана "Устная новелла Пушкина" в свое время имела успех, и до сих пор еще некоторые исследователи разделяют мнение автора.
1 (Л. П. Гроссмач, Устная новелла Пушкина. В кн.: Этюды о Пушкине, М., 1923, стр, 111.)
На мой взгляд, однако, прав в высшей степени осторожный и точный М. А. Цявловский, считавший, что нет никаких оснований приписывать поэту подобную, весьма некрасивую выдумку.
Если согласиться с Гроссманом и его сторонниками, если признать, что рассказ Пушкина о приключении с графиней Фикельмон - выдумка, своего рода "новелла", то пришлось бы этот "художественный" оговор ни в чем не повинной женщины назвать не "устной", а "гнусной" новеллой Пушкина.
М. А. Цявловский, кроме того, справедливо напоминает об очень существенном факте. Тетрадь Бартенева целиком прочел один из близких друзей Пушкина С. А. Соболевский. На полях он отметил ряд даже совсем незначительных неточностей, но запись о любовном приключении в посольстве не вызвала с его стороны никаких возражений. Очевидно, Соболевский знал, что эта история - не вымысел.
Есть и еще одно прямое доказательство ее подлинности. Автор первой научной биографии Пушкина П. В. Анненков, собирая свои материалы, записал с чьих-то слов: "Жаркая история, с женой австрийского посланника".1 Нащокина в это время уже не было в живых. Очевидно, о приключении поэта знали не только Павел Воинович и Соболевский.2 Итак, записи Бартенева приходится верить.
1 (Б. Л. Модзалевский. Пушкин. Л., 1929, стр. 341.)
2 (Возможно, однако, что А. В. Флоровский прав, выдвигая другое предположение, - запись Анненкова, быть может, основана на ранее им слышанном рассказе того же П. В, Нащокина. (Флоровский. Пушкин на страницах дневника, стр. 568).)
Совершенно того не подозревая, мы еще с детских лет знали начало этого приключения,- как поэт проник в особняк и ожидал возвращения хозяйки.
Помните, читатель, эти места "Пиковой дамы"? "Сегодня бал у ...ского посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до двух. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся, в сенях останется один швейцар, но и он, обыкновенно, уходит в свою каморку. Приходите в половине двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет, - и делать нечего. Вы должны будете воротиться Но вероятно вы не встретите никого. Девушки сидят у себя, все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите все прямо до графининой спальни (...)".
"...Ровно в половине двенадцатого Германн ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Германн взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою в старинных, запачканных креслах. Легким и твердым шагом Германн прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Гермаин вошел в спальню (...). Но он воротился и вошел в темный кабинет.
Время шло медленно. Все было тихо. В гостиной пробило двенадцать; по всем комнатам часы одни за другими прозвонили двенадцать - и все умолкло опять. Германн стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен; сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра, - и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились (...)".
Как видно, между рассказом Нащокина и текстом "Пиковой дамы" действительно есть большое сходство. Возможно, правда, что Нащокин, передавая рассказ Пушкина, еще несколько усилил его. Вряд ли, например, забыв многое существенное, он действительно помнил такую подробность, как стук подъезжавшей кареты. Скорее всего, Павел Воинович невольно заимствовал ее из пушкинской овести. Тем не менее, сходство между обоими повествоваиями остается несомненным.
Картина проникновения Германна во дворец графини полна конкретных подробностей и вполне правдоподобна. Возможно, что Пушкин и в самом деле здесь точно описал начало своего собственного приключения. Нащокин эти подробности запамятовал и ограничился мало что говорящей фразой: "Вечером Пушкину удалось пробраться в ее еликолепный дворец...".
Истории романа Пушкина и Долли Фикельмон мы пока совершенно не знаем. Уцелела от него лишь одна глава. Остальные вряд ли когда-нибудь отыщутся. Само собою разумеется, что письма этого времени, если они и были, сразу же уничтожались. Но не о своих ли письмах к графине Пушкин говорит в той же "Пиковой даме"?
"Германн их писал, вдохновленный страстию, и говорил зыком, ему свойственным: в них выражались и непреклоность его желаний, и беспорядок необузданного воображеия. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать: она пивалась ими; стала на них отвечать, - и ее записки час т часу становились длиннее и нежнее".
Это, конечно, только предположение, но раз в знаменной повести в самом деле есть автобиографическая сцена, о могут найтись и другие подробности, взятые поэтом из обственной жизни...
Интересно также отметить, что в 1917 году вдумчивый пушкинист Н. О. Лернер1 обратил внимание на странное несоответствие мыслей Германна, уходившего из дома графини, с только что разыгравшейся по его вине драмой: "По этой самой лестнице, думал он, может быть, лет шестьдесят назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанный a l'oiseau royal,2 прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться..."
1 (А. С. Пушкин. Пиковая дама. Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, Петроград, 1917, стр. XX.)
2 (Королевской птицей (франц.).)
Комментатор "Пиковой дамы" считает, что "Психологически недопустимыми кажутся нам мысли, с которыми Германн покидает на рассвете дом умершей графини. Думать о том, кто прокрадывался в спальню молодой красавицы шестьдесят лет назад, мог в данном случае автор, а не Германн, потрясенный "невозвратной потерей тайны, от которой ожидал обогащения". С таким настроением не вяжутся эти мысли, полные спокойной грусти".
Н. О. Лернеру рассказ Нащокина в 1917 году был неизвестен, но, зная его, нельзя, мне кажется, не согласиться с мнением этого пушкиниста о том, что в данном случае так мог думать автор, а не Германн... Возможно, что перед нами еще одна автобиографическая подробность - благополучно уйдя из посольского особняка, поэт мог спросить себя, может быть, и с ревнивой грустью: не было ли у него предшественников на этом пути?..,
Надо сказать, что образ Долли Фикельмон, героини любовного приключения с Пушкиным, решительно не вяжется со всем тем, что мы знали о ней до недавнего времени. Как совместить ее несомненную любовь к мужу, религиозность, сильно развитое чувство долга, наконец, ее душевную опрятность с этой, пусть недолгой, связью?
Однако уже в 1965 году я обратил внимание на то, что даже в ее поздних письмах чувствуется, что графиня Долли - человек увлекающийся и страстный, хотя и сдержанно страстный. Должно быть, в облагороженной и смягченной форме она все же унаследовала темперамент матери, женщины, порой совершенно не умевшей справляться со своими переживаниями.
Великий дед Дарьи Федоровны Михаил Илларионович Кутузов, как известно, также любил все радости жизни и до конца своих дней бывал порой неравнодушен к женщинам. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть его письма к любимой дочери, Елизавете Михайловне Хитрово.1
1 ("Русская старина", 1874, июль, стр. 337 - 377.)
Став взрослой, Долли Фикельмон всегда выдержанна и ровна. Лишних слов она и любимой сестре не говорит. Ее чувства отливаются в достойную и изящную форму, но они не потухли, совсем не потухли, несмотря на годы и внучат. Один за другим проходят в ее письмах образы мужчин, которые в данное время так или иначе интересуют немолодую уже графиню. Сильнее всего, кажется, ее привязанность к молодому генералу Григорию Скарятипу, который приезжал и в Теплиц. Смерть генерала во время Венгерского похода - большое личное горе для Фикельмон. "Я только что узнала, что ты и я потеряли один из предметов нашей самой нежной привязанности. Григорий Скарятин умер, как герой".1 "Увы, ужас войны чувствуешь тогда, когда ты потеряла кого-нибудь, кто тебе дорог".2
1 (Сони, стр. 229.)
2 (Там же, стр. 232.)
Несколько неравнодушна Дарья Федоровна и к своему ровеснику хорватскому бану (генерал-губернатору) Иеллачичу, о котором она опять осторожно пишет сестре "твой и мой герой".1
1 (Там же, стр. 224.)
Очень романтичны ее чувства к австрийскому императору Францу-Иосифу. По отношению к нему пиетет убежденной монархистки переплетается с переживаниями, похожими на материнские, и с явственным, хотя, возможно, неосознанным увлечением красивым юношей.
Думаю, что этих немногих примеров достаточно. Они показывают, что жизнь сердца и на склоне лет не всецело замкнулась у графини Долли в дорогом ей превыше всего домашнем кругу. Чувствуется, что и в
... науке страсти нежной, Которую воспел Назон,-
онa далеко не невежда.
"Женщины в этом отношении не ошибаются, они быстро распознают по тому, как на них смотрит мужчина, новичок он или нет в искусстве их любить",1- эту фразу написала, во всяком случае, женщина, много жившая сердцем. В дневнике молодой графини, несмотря на всю его сдержанность, сердечные переживания порой проступают ясно. О том же Григории Скарятине она говорит, что была "привязана к нему всей душой" и чувствовала к нему "нежную дружбу".2 У Василия Толстого графиня находит "ангельское сердце".3 Александр Строганов является "одним из ее любимцев".4 Своему поклоннику Вяземскому, как мы знаем, она писала 12 декабря 1831 года: "...я рассчитываю на хороший уголок в вашем сердце, откуда я не хочу, чтобы меня выжили и где я останусь вопреки вам самому".
1 (Там же, стр. 396.)
2 (Флоровский. Дневник Фикельмон, стр. 77 - 78.)
3 (Там же, стр. 78.)
4 (Там же, стр. 127.)
Надо снова сделать оговорку: по-французски, особенно в романтическую эпоху, когда с друзьями почти обязательно полагалось беседовать о чувствах, многие выражения звучали менее интимно, чем соответствующие русские, но все же интимность в них есть немалая.
А записывая маскарадный разговор со своим приятелем, атташе английского посольства Медженисом, графиня приводит весьма любопытный отзыв о самой себе. Молодой дипломат ее не узнал (или сделал вид, что не узнал,- это тоже практиковалось). Во всяком случае, он сказал, что Фикельмон "это фразерка и лед, который я не дал себе труда растопить".1 Против несправедливого эпитета "фразерка" она протестует, а сравнение со льдом, который при желании можно растопить, ее, видимо, не задело. Внутренне правдивая женщина свою страстную натуру знала...
1 (Флоровский. Дневник Фикельмон, стр. 85.)
Все это я писал в 1964 году, еще не зная, что в Пушкинском Доме хранятся три папки с бледно-голубыми листками и надписью на обложке "Александр I, император".
Из писем Долли Фикельмон к П. А. Вяземскому мне, как и всем, были известны тогда только два, в свое время небрежно переведенные сыном князя, и выдержка из третьего, опубликованная в "Литературном Наследстве". 14 писем и 67 записок графини к Петру Андреевичу лежали в Остафьевском архиве и, кроме работников ЦГАЛИ и очень немногих специалистов, о них не знал никто.
Я получил возможность ознакомить с ними читателей в больших выдержках. Подробно рассказал о двух нам известных платонических увлечениях Дарьи Федоровны - ее совсем юной "влюбленной дружбе" с царем Александром и такой же дружбе с Вяземским. Думаю, что образ графини Долли, страстной по натуре женщины, любившей своего старого мужа, но, видимо, любившей и свою молодую жизнь, не покажется теперь столь уж несовместимым с возможностью увлечения и более опасного. Нельзя забывать а об ее склонности к "эскападам", порой довольно рискованным.
Когда же Пушкину удалось "растопить лед"? Когда разыгралась эта история с женой австрийского посла?
В биографическом плане этот вопрос далеко не праздный. Связь с графиней, если она имела место до женитьбы Пушкина, осложнить его семейной жизни не могла. Наталья Николаевна, конечно, знала немало о прошлых увлечениях мужа. Россказни о них, обычно приукрашенные, шли по всей России. Недаром она начала ревновать еще будучи невестой. Дело обстоит иначе, если этот роман - одна из любовных провинностей женатого поэта. В очень запутанной под конец семейной жизни Пушкина она могла стать своего рода лишней гирей на домашних весах.
В первые годы после опубликования рассказа Нащокина среди пушкинистов, вообще относящихся с сомнением к истинности этой истории, существовало мнение о том, что ее, во всяком случае, следует отнести к ранней поре знакомства поэта и графини - возможно, к зиме 1829 - 1830 годов.1
1 (Письма к Хитрово, стр. 56 - 57.)
В настоящее время, после опубликования письма Пушкина к Дарье Федоровне от 25 апреля 1830 года, это мнение вряд ли можно считать обоснованным. За изысканно любезными, великолепно отшлифованными фразами поэта совершенно не чувствуется интимной близости с адресаткой, будто бы имевшей место всего несколькими месяцами ранее. Мы знаем кроме того, что тогда же П. А. Вяземский удивлялся тому, что Пушкин не был влюблен в графиню Фикельмон. Петр Андреевич - наблюдатель очень внимательный. Он к тому же в это время сам сильно увлекался графиней Долли и, наверное, почувствовал бы в Пушкине соперника, если бы поэт был таковым.
Из переписки Дарьи Федоровны мы знаем теперь, что в 1830 - 1831 годах, несмотря на несомненный интерес и симпатию к Пушкину, князь Петр Андреевич, ее усердный поклонник, занимал графиню Долли гораздо больше. Вяземский кроме того ее единомышленник в сильно волновавшем Фикельмон польском вопросе. Можно думать, что с автором "Бородинской годовщины" она некоторое время была "на ножах". Только осенью 1832 года, как я старался показать, дружба графини Долли с Вяземским перестала быть "влюбленной".
Эпизод, о котором идет речь, приходится, во всяком случае, отнести к тем годам, когда Пушкин был уже женат.
Даты приключения в особняке австрийского посольства установить, конечно, невозможно. Попытаемся все же выяснить, когда, приблизительно, оно могло произойти.
В августе или ноябре 1833 года Пушкин уже читал Нащокину рукопись "Пиковой дамы", в которую, как мы видели, включен биографический эпизод. В выпущенной мною части рассказа Нащокина есть упоминание о том, что поэт проник в посольство в холодное время года (топили печи). Если Павел Воинович не ошибся, то, значит, эпизод произошел самое позднее в 1832 - 1833 годах. М. А. Цявловский считает наиболее вероятной либо эту зиму, либо предыдущую.
На мой взгляд, приходится остановиться именно на этой последней зиме, хотя, казалось бы, Пушкин не мог ввести в повесть эпизод, который произошел совсем недавно.1
1 (Основываясь на этом именно соображении, Н. В. Измайлов в свое время полагал, что романический эпизод, если он на самом деле был, следует отнести ко времени до женитьбы. (Письма к Хитрово, стр. 56 - 57).)
Никто из исследователей, если не ошибаюсь, не обратил, однако, внимания на тот факт, что в 1830 - 1831 годах графиня Фикельмон неоднократно упоминает о Пушкине и его жене в дневнике и в письмах. Упоминает о них и в 1832 году - в последний раз 22 ноября, но затем фамилия поэта внезапно исчезает из дневника на ряд лет - вплоть до записи о дуэли и смерти. Не упоминается она больше и в письмах Дарьи Федоровны. Ссоры между ними не произошло - Пушкин, как видно из его дневника, продолжал бывать на обедах и приемах в австрийском посольстве. Нет сведений и о том, чтобы он прекратил посещения салона Хитрово-Фикельмон. Нельзя, наконец, объяснить молчание графини Долли ее болезнью - в 1833 году она, во всяком случае, как и раньше, регулярно вела дневник, много выезжала и принимала у себя. Ее записи становятся нерегулярными только с 1834 года.
Таким образом, ссоры не было, но перо графини почему-то перестало писать фамилию поэта...
Мне кажется вероятным, что именно 22 ноября 1832 года можно считать той датой, после которой произошло незабываемое для Долли Фикельмон событие. Это число - "terminus post quern" на языке науки.
Когда будет опубликована (надо надеяться) и вторая тетрадь дневника, промежуток времени, в течение которого могла произойти интимная встреча графини и поэта, быть может, удастся сократить. В конце февраля 1833 года (запись 23 марта) Дарья Федоровна уже уехала в Дерпт (Юрьев, Тарту).1 Если мы узнаем, что она вернулась в столицу, когда в Петербурге печей уже не топят, "автобиографическую сцену" надо будет отнести к декабрю 1832 - февралю 1833 года.2
1 (Фяоровский. Дневник Фикельмон, стр. 58.)
2 (Приходится, однако, не забывать, что слабеющая память П. В. Нащокина могла его обмануть и в отношении топки печей.)
Впоследствии, в день серебряной свадьбы (3 июня 1846 года) Дарья Федоровна писала сестре, что ее пришли поздравить внучата, одетые ангелами, с цветочными цифрами на груди - "на одном 2, на другом 5 - двадцать пять лет счастья...".
Вероятно, она искренна, или почти искренна... Можно поверить, что счастье супругов было безоблачным в юные и пожилые годы графини. Но между неаполитанской жизненной весной и венской осенью было еще петербургское лето. Фикельмон, несомненно, любила стареющего мужа и в эти северные годы, но была ли она тогда до конца счастлива? Можно в этом усомниться, несмотря на ее многократные дневниковые уверения в противном...
Думается, однако, что роман с Пушкиным был все же лишь коротким эпизодом в ее жизни. Вероятно, для графини Долли, человека душевно чистого и совестливого, после памятной ночи наступили дни раскаянья. Не верится, чтобы она могла легко простить себе то, что сделала, не справившись со страстью, разбуженной поэтом.
Трудно предположить, чтобы интимные свидания повторялись. Короткая предельная близость с Пушкиным скорее оттолкнула от него графиню. После пережитого потрясения душевные тормоза опять окрепли. Дарье Федоровне первое время было тяжело принимать поэта в своем доме. Потом это чувство прошло, но надолго, может быть, и навсегда, осталась некоторая неловкость, настороженность, нарочитая сдержанность, которая, как мы увидим, чувствуется в высказываниях графини о Пушкине после его смерти.
Предельно осторожен и сдержан в своих писаниях и сам поэт. Ни одного лишнего слова о Дарье Федоровне у него нет. Не будь его неосторожного разговора с Нащокиным (может быть, и еще с кем-нибудь из близких друзей?), мы бы вряд ли вообще что-либо узнали об этом тщательно скрываемом романе.
Нелегко себе представить, что переживала графиня Долли, читая "Пиковую даму", напечатанную в 1834 году, и слушая разговоры о знаменитой повести в своем салоне.1 Ее чувства, можно думать, были сложными и смешанными. Однако у Фикельмон не было никаких оснований предполагать, что кто-либо из читателей "Пиковой дамы" сможет догадаться, о чем там местами идет речь. В то же время она не могла не помнить, что интимно связанная с ней пушкинская повесть, вероятно, переживет века...
1 (Можно думать, что в 1834 году Дарья Федоровна уже достаточно привыкла к русскому языку, чтобы прочесть "Пиковую даму",- возможно, с помощью матери.)
Возможно, что она узнала кое-какие свои черты и в образе Татьяны-княгини:
К хозяйке дама приближалась, За нею важный генерал. Она была нетороплива. Не холодна, не говорлива. Без взора наглого для всех, Без притязаний на успех, Без этих маленьких ужимок. Без подражательных затей... Все тихо, просто было в ней...
Предположение о том, что Фнкельмон отчасти послужила прототипом любимой героини Пушкина, ставшей дамой большого света, высказывалось многими. Неоднократно литературоведы указывали и на то, что в описании гостиной Татьяны-княгини есть сходство с салоном графини Долли, где Пушкин, по словам Вяземского, был "дома".
Перед хозяйкой легкий вздор Сверкал без глупого жеманства, И прерывал его меж тем Разумный толк без пошлых тем, Без вечных истин, без педантства, И не пугал ничьих ушей Свободной живостью своей.
По мнению ряда очень авторитетных пушкинистов, в этом же салоне Пушкин мог получить от прекрасно осведомленного австрийского посла достоверные сведения об истинном облике Сальери и тайне смерти отравленного им Моцарта.1 Эти сведения поэт использовал в своей трагедии "Моцарт и Сальери".2
1 (И. Ф. Бэлза. Моцарт и Сальери. Пушкин. Исследования и материалы, т. IV, стр. 248.)
2 (...в своей трагедии "Моцарт и Сальери".- В настоящее время специалисты-моцартоведы считают, однако, предание об отравлении Моцарта Сальери лишенным какой бы то ни было фактической основы.)
Беру на себя смелость высказать еще одно предположение. Образ графини Фнкельмон запечатлен и в "Египетских ночах". Вспомним то место, где импровизатор-итальянец предлагает присутствующим дамам вынуть из вазы жребий - одну из предложенных ему тем. "Импровизатор сошел опять с подмостков, держа в руках урну, и спросил:- Кому угодно будет вынуть тему?- Импровизатор обвел умоляющим взором первые ряды стульев. Ни одна из блестящих дам, тут сидевших, не тронулась. Импровизатор, не привыкший к северному равнодушию, казалось, страдал... вдруг заметил он в стороне поднявшуюся ручку в белой маленькой перчатке; он с живостию оборотился и подошел к молодой величавой красавице, сидевшей на краю второго ряда. Она встала безо всякого смущения и со всевозможною простотою опустила в урну аристократическую ручку, и вынула сверток.
- Извольте развернуть и прочитать,- сказал ей импровизатор. Красавица развернула бумажку и прочла вслух: Cleopatra e i suoi amanti (Клеопатра и ее любовники).
Эти слова произнесены были тихим голосом, но в зале царствовала такая тишина, что все их услышали. Импровизатор низко поклонился прекрасной даме с видом глубокой благодарности и возвратился на свои подмостки".
Кто же эта молодая красавица-аристократка, величавая на вид и в то же время так не похожая па чопорных, всего боящихся петербургских дам? Как и у Татьяны-княгини, у нее "всевозможная простота". Красавица, видимо, уверенно читает по-итальянски. Мне думается, что на вечер импровизатора-итальянца Пушкин привел графиню Фикельмои, так любившую Италию...
Н. Каухчишвили нашла мое предположение "заслуживающим внимания" ("degno di attenzione"). По ее словам, "является вероятным, что гипотеза близка к истине" ("si avvicini al verо").1 Автор указывает далее, что графиня покровительствовала в Петербурге одному импровизатору и приводит ее дневниковую запись от 20 октября 1832 года: "...на днях мы слушали немца импровизатора Лангеншварца. Я несколько раз видела этого молодого человека и стараюсь быть ему полезной, впрочем, без большой удачи. Он очень молод, особенно в умственном отношении, но у него благочестивая душа, чистая и сердечная, как у молодой девушки. Его фигура вовсе не примечательна, но глаза прекрасны, часто полны вдохновения".2
1 (Дневник Фикельмон, стр. 56.)
2 (Там же, стр. 57. Перевод М. И. Гиллельсона.
Приходится лишний раз пожалеть о том, что из второй тетради Дневника мы знаем пока лишь отдельные цитаты.)
Автор полагает, что Фикельмон, возможно, пригласила Пушкина послушать импровизатора у себя в особняке, и поэт, подобно Чарскому, был поражен его горящими глазами. Предположение Каухчишвили, несомненно, интересно и не расходится с летописью жизни поэта. Пушкин выехал из Москвы в Петербург 10 октября и, следовательно, мог побывать у Фикельмон за несколько дней до двадцатого.
Супруги Фикельмон продолжали покровительствовать этому импровизатору и позднее. Посол рекомендовал его княгине Мелании Меттерних, и та устроила у себя в Вене многолюдный вечер. Одна из тем, предложенных артисту ("Разрушение Помпеи"), как отмечает Каухчишвили, точно совпадает с заданной импровизатору на петербургском вечере, описанном в "Египетских ночах". Лангеншварц удивил княгиню Меттерних, но ей не понравился. Впоследствии (в 1836 году), вспоминая о нем, княгиня назвала его в дневнике "неспособным и смешным импровизатором"1.
1 (Дневник Фикельмон, стр. 57.)
Н. Каухчишвили указывает кроме того на одно действительно странное совпадение. В 1827 году в Неаполе выступал знаменитый итальянский импровизатор Томмазо Сгриччи (Tommaso Sgricci), который, по желанию короля, продекламировал современную поэму "Смерть Клеопатры". Долли Фикельмон, по-видимому, присутствовала на этом представлении и, по предположению автора, ее рассказ о выступлении Сгриччи мог побудить Пушкина включить в текст "Египетских ночей" давно написанные им стихи о Клеопатре.
Верно это или не верно, пусть решают специалисты-пушкинисты, но нельзя не приветствовать рвение исследовательницы русско-итальянских литературных отношений, которая имеет возможность обращаться к источникам, очень трудно доступным для советских ученых1.
1 (Итальянские газеты Пушкинского времени, в ленинградских книгохранилищах, например, отсутствуют.)
Н. Каухчишвили полагает также, что "молодой человек, недавно возвратившийся из путешествия, бредя о Флоренции", это гвардейский офицер Василий Васильевич Сабуров (1805 - 1879). Автор основывается на том, что в той же записи (20 октября), в которой Д. Ф. Фикельмон говорит об импровизаторе Лангеншварце, она упоминает и о Сабурове, вернувшемся из Италии. Он привез оттуда "отражение светлой жизни Юга, так как долго прожил среди итальянцев и страстно любит их страну". "При нем находился маленький художник-сицилианец, истинное выражение южной непосредственности"1. По мнению Каухчишвили, этот персонаж, возможно, побудил Пушкина сделать своего импровизатора "итальянским художником".
1 (Дневник Фикельмон, стр. 57. Перевод М. И. Гиллельсона.)
Если не все предположения Н. Каухчишвили окажутся обоснованными, все же я склонен считать несомненным, что "Египетские ночи", написанные, вероятно, в Михайловском осенью 1835 года, как-то связаны с рассказами графини Фикельмон об ее неаполитанских годах и о ее покровительстве немецкому импровизатору.
Быть может, именно поэтому Пушкин и увековечил ее в образе "молодой величавой красавицы", которая пришла на помощь бедному итальянцу...
Незаконченная повесть была напечатана в 1837 году, уже после смерти поэта.
Высказав впервые в 1965 году предположение о том, что прототипом "молодой величавой красавицы" в "Египетских ночах" является Д. Ф. Фикельмон, я вместе с тем считал, что "это последнее (и, собственно говоря, единственное) появление графини Долли в творчестве Пушкина".1
1 (Н. Раевский. Если заговорят портреты. Алма-Ата, 1965, стр. 133 - 134.)
В настоящее время я, однако, присоединяюсь к мнению М. И. Гиллельсона, предположившего, что прототипом "княгини Д." в наброске "Мы проводили вечер на даче" также является графиня Фикельмон1.
1 (М. И. Гиллельсон. Пушкин в итальянском издании дневника Д. Ф. Фикельмон, Врем. ПК. 1967 - 1968. Л., 1970, стр. 15 - 17.)
В пользу аргументации Гиллельсона можно, как мне кажется, привести и сходство между высказываниями "княгини Д.", протестующей против преувеличенной стыдливости при выборе чтения, и отзывом Фикельмон о письмах Курье: "... они, надо сказать, легкомысленны, но принято считать, что в наш век можно все читать без стеснения".
Как мы видим, и в жизни и в творчестве Пушкина Дарья Федоровна Фикельмон, вероятно, сыграла значительно большую роль, чем можно было предполагать до недавнего времени.
Выяснению ее жизненного пути я посвятил уже немало страниц, но снова вернусь к графине Долли в двух следующих очерках.
|
ПОИСК:
|
© A-S-PUSHKIN.RU, 2010-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'