
Через степь безбрежную

Через степь безбрежную
В мае 1829 года прославленный русский поэт Александр Сергеевич Пушкин ехал через донские и сальские степи на Кавказ, в действующую русскую армию: в тот год Россия воевала с Турцией.
В самом начале войны Пушкин подал правительству просьбу зачислить его в армию. Ему ответили, что все места в армии заняты. Пушкину было ясно, что своим отказом правительство выражало ему политическое недоверие. И тогда он решил ехать в действующую армию без разрешения.
В марте 1829 года Пушкин выехал из Петербурга. По дороге он остановился в Москве, где жил в это время предмет его любви - семнадцатилетняя красавица Наталья Гончарова. Первого мая он сделал ей предложение. Ответ ее матери был весьма обнадеживающий. Мать писала о молодости Натали, о необходимости подождать, подумать; это не было отказом и давало право надеяться и вновь повторить предложение. Первого мая Душкин написал будущей теще восторженно-благодарственное письмо и тотчас, в ночь на второе мая, выехал на юг.
Пушкин понимал, что, выехав без разрешения царя и шефа жандармов Бенкендорфа, он навлекает на себя их гнев и что потом ему придется оправдываться и подыскивать благовидные мотивы, объясняющие его внезапный самовольный отъезд, но это будет потом, а сейчас им владело чувство свободы, раскованности, словно вырвался он из тюремной камеры.
А вслед за ним, 12 мая 1829 года, начальник штаба генерал-майор Д. Е. Остен-Сакен доносил военному губернатору Грузии: "Известный стихотворец отставной чиновник X класса Александр Пушкин отправился в марте месяце из С.-Петербурга в Тифлис, а как по высочайшему его имп. величества повелению состоит он под секретным надзором, то... прошу не оставить распоряжением вашим о надлежащем надзоре за ним по прибытии его в Грузию".
Пушкин ехал быстро, подолгу нигде не задерживаясь. Лишь в начале пути он сделал крюк в 200 верст, в Орел, чтобы увидеть опального генерала Алексея Петровича Ермолова, недавно смещенного наместника Кавказа, популярного в среде декабристов, которого они намечали в члены временного правительства в случае удачного государственного переворота. Эта тайная поездка опального поэта к опальному генералу, описание которой Пушкин опустил при публикации своих путевых записок, заставляет нас еще раз восхититься и удивиться необыкновенной его смелости. В дороге Пушкин припоминал свой разговор с Ермоловым. Говорили о Карамзине, и Пушкин сказал тогда Ермолову: "Меня удивляет его добродушие и простосердечие: говоря о зверствах Ивана Грозного, он так ужасается, так удивляется, как будто такие дела и поныне не составляют самого обыкновенного занятия наших государей". Ермолов выразил свое согласие с ним.

Новочеркасск. Триумфальная арка
В Новочеркасске Пушкин остановился на почтово- ямщицкой станции - в одноэтажном деревянном доме на Атаманской улице*.
* (В наше время - Советская. )
Здесь Александр Сергеевич задержался. Как сообщали потом местные старожилы-долгожители, он ждал денежный перевод.
Новочеркасская газета "Донской голос" (№ 47 за 28 июня 1880 года) сообщала такой факт: "Посетивший Пушкина в Новочеркасске В. В. Золотарев (из военных) предложил поэту переселиться к нему в дом, находившийся на ул. Горбатой. Приглашение поэт принял. Семейство Золотаревых очень понравилось Александру Сергеевичу, и поэт неоднократно писал экспромты и дарил их"*.
* (Есаулу В. В. Золотареву, его жене Екатерине Алексеевне и их двум девочкам. )
Зайдя как-то во двор конно-почтовой станции, Пушкин увидел груженую бричку и узнал, что проезжающий - его старый приятель граф Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин, сын известного собирателя древних памятников России, открывшего миру шедевр XII века "Слово о полку Игореве". Сам Владимир Алексеевич - в прошлом капитан лейб-гвардии Измайловского полка и активный член Северного тайного общества - после разгрома декабристов отсидел шесть месяцев в крепости и был отправлен на службу в Петровский пехотный полк. Теперь опальный офицер был переведен в Тифлис. Александр Сергеевич тоже намерен был посетить Тифлис, где служил в Нижегородском драгунском полку его младший брат Лев Сергеевич, а командиром его был старый друг Николай Раевский -генерал в двадцать семь лет. Они сердечно обрадовались друг другу и договорились путешествовать далее вместе.
Из Новочеркасска выехали рано утром, Мусин-Пушкин ехал в просторной бричке, наполненной провизией, вином и книгами, мундирами и ружьями; Александр Сергеевич - в своей коляске.
В Аксае, на конно-почтовой станции, пока смотритель торопливо записывал в подорожную книгу фамилии и звания проезжающих, а ямщики закладывали лошадей, Александр Сергеевич, стоя у обрыва, смотрел на Задонье, на слияние реки Аксая с Доном и вспоминал свою первую поездку по этим местам в 1820 году с семьей Раевских. "Прошло девять лет, - думал Александр Сергеевич, - и что же сталось? Прелестная Машенька томится в сибирской глуши, в нерчинских рудниках, куда она добровольно последовала за мужем - каторжником, декабристом князем Сергеем Волконским. Там же и другие женщины-герои..." С Муравьевой он послал в Сибирь друзьям-декабристам свой поэтический привет:
Во глубине сибирских руд Храните гордое терпенье, Не пропадет ваш скорбный труд И дум высокое стремленье. Несчастью верная сестра, Надежда в мрачном подземелье, Разбудит бодрость и веселье, Придет желанная пора. Любовь и дружество до вас Дойдут сквозь мрачные затворы, Как в ваши каторжные норы Доходит мой свободный глас. Оковы тяжкие падут, Темницы рухнут - и свобода Вас примет радостно у входа, И братья меч вам отдадут!
"Братья... Повешенные повешены; но каторга ста двадцати друзей, братьев, товарищей ужасна... А сколько их рассеяно по России! Говорят, на Кавказе служат шестьдесят пять разжалованных офицеров-декабристов и три тысячи солдат, жертв восстания на Сенатской площади. Между ними и Михаил Пущин, брат моего бесценного друга, первого друга лицейских лет - Ивана Пущина. Теперь он томится в Сибири, в мрачных пропастях земли. Непременно надо свидеться с ними, о многом расспросить, узнать, собрать материал о деятельности тайных обществ для десятой главы "Онегина".
Из глубокой задумчивости Пушкина вывел его дядька:
- Лошади готовы, Александр Сергеевич! Извольте садиться в коляску. Владимир Алексеевич вон уже сидит в своей колымаге,- говорил он, подходя к Пушкину.
- Ну так и я к нему сяду, а ты - езжай следом.
Переправились паромом через Дон на его левый берег.
Задонье встретило их заливными лугами, ериками и озерами, лежащими по обе стороны дамбы, как серебряные чаши. Озера белели от лилий, а над ними с легким шумом кружились перламутровые стрекозы.
Путь держали через Махинскую, Кагальницкую, Мечетинскую, Егорлыкскую на Ставрополь.
Уже за Махинской тракт пошел суходолом. Пушкин пристально следил за переходом от Европы к Азии, начавшемся, впрочем, задолго до переправы через Дон. Все чаще встречались птицы и звери, неведомые в глубине России.
Меняя на станциях лошадей, путники быстро продвигались вперед, поливаемые варом степного солнца. В густой и высокой траве нетронутой степи гнездились чуткие и осторожные стрепеты, бродили стада дроф, а высоко над степью парили ястребы и подорлики.
Дрофы лишь ненадолго привлекли внимание Пушкина своей новизной.
- Птица огромная, но к земле прикованная, и это ее умаляет,- сказал он своему спутнику.- Все великое должно парить. Орлы - вот истинно поэтическая птица!
Да, Пушкина привлекали орлы. Они сидели на придорожных курганах, словно охраняя дорогу, и гордо смотрели на проезжающих. Они кружили в небе, и их свободный полет, стремительность и сила при нападении на свою жертву, точность и зоркость глаза, неподвластность человеку - вся их стихия была понятна и близка его собственной беспокойной и свободной натуре.
В сальской степи они увидели, как стадо сайгаков - степных антилоп - вихрем промчалось, пересекая дорогу, на расстоянии выстрела и скрылось в зарослях лощины за бугром.
Дядька Пушкина суеверно перекрестился, шепча:
- Сущие бесы рогатые!
Пушкин смеялся:
- На орловских рысаках не догнать этих бесов!
Ярко палило солнце. Безоблачное небо выцвело и побледнело. Воздух над степью дрожал, и где-то у горизонта сквозь марево блеснула полоска воды. С каждой минутой она ширилась, вот разлилась рекой и наконец безбрежным морем смыла горизонт.
- Александр Сергеевич! - окликнул его Мусин- Пушкин. - Вы видите море?
- Вижу, но полагаю, что не море то, а степной мираж.
Казак-возница, вытирая рукавом рубахи пот со лба, убежденно сказал:
- То морока на глаза туман пущает. Иного казака так заморочит, что заплутается бедолага в степи да и сгинет без воды.
Видение на краю степи - морока - манило кажущейся прохладой, томило жаждой студеной воды.
Подвижный и общительный Пушкин не мог долго усидеть даже в тени своей коляски и часто пересаживался в бричку Мусина-Пушкина, где можно было говорить обо всем откровенно и без боязни, что их кто-то услышит. Когда же они говорили о тайном, чего не должен слышать даже казак-возница, они говорили по-французски.
К вечеру показался калмыцкий улус. Белые войлочные кибитки стояли замкнутым кругом; внутри круга, неподалеку от своих кибиток, копошились женщины; играли, громко крича, дети. За кибитками мирно паслись косматые низкорослые кони. Чуть поодаль калмыцкого становища увидели избу почтовой станции, окрашенную желтой охрой, где и решили заночевать.
Поутру выехали рано, и часам к десяти, когда над степью разыгралось яркое солнце и подкрадывался зной, снова показались калмыцкие кибитки.
Пушкин заметил: где калмыцкий улус, там и русская почтовая станция. Да вот и она!
Коляска Пушкина и бричка Мусина-Пушкина въехали во двор почтовой станции. Пока меняли лошадей, Пушкин пошел к калмыцким кибиткам. Александр Сергеевич хорошо знал историю этого смирного и доброго народа из трудов ученого-востоковеда Никиты Яковлевича Бичурина, дарившего ему свои книги о Тибете и Джунгарии - родины ойратов, или калмыков. Пушкин знал, что в Россию калмыки пришли в начале XVII века из Джунгарии и кочевали между Волгой и Яиком. Знал и о том, что в конце XVIII столетия, доведенные местным начальством до отчаяния, калмыки в числе 30 тысяч кибиток снова ушли в Джунгарию, что большая часть их погибла в пути, а бывшая родина, где хозяйничали теперь китайцы, встретила их неласково.
Ряды оставшихся калмыков сильно поредели, и теперь в задонских степях, где с 1803 года донским атаманом М. И. Платовым им было отведено место для кочевий, их насчитывалось около 15 тысяч человек*.
* (Эпитеты Пушкина.)
Откинув полог у входа в одну из кибиток, Пушкин вошел внутрь. Посреди кибитки на таганке, под которым дымно горел сухой навоз, стоял котел для варки пищи. Дым очага выходил в отверстие у вершины кибитки. Пожилой калмык в пестром халате с широкими рукавами сидел на полу, поджав под себя скрещенные ноги, и курил трубку. Старуха что-то помешивала в котле большим деревянным черпаком. Поодаль сидела за шитьем молодая калмычка, судя по всему - их дочь. Семья готовилась завтракать. Пушкин приветствовал хозяев, и старый калмык сдержанно ответил ему.
Пушкин присел возле молодой калмычки, которую нашел очень недурной, и спросил, как ее зовут. Блеснув жемчужными зубами, она ответила.
- Сколько чтебе лет? - снова спросил Александр Сергеевич.
- Десять и восемь,- отвечала девушка приятным голосом.
- Что ты шьешь?
- Портка, - сказала она, делая затяжку из своей длинной трубки.
- Кому?
- Себя, - улыбнулась ему девушка, поправляя на голове круглую шапочку, похожую на кибитку в миниатюре.
- Поцелуй меня, - предложил ей лукаво Пушкин.
- Неможно, стыдно, - отстранилась девушка, и на ее смуглом лице вспыхнул темный румянец.
Отец что-то сказал ей, и она пошла завтракать, подав Александру Сергеевичу свою курительную трубку.
Старуха разлила по кружкам из котла чай с бараньим жиром и солью. Молодая калмычка предложила гостю свой ковшик, и, подчиняясь правилам гостеприимства, Пушкин храбро хлебнул. Калмыцкий чай ему не понравился, и он попросил чем-нибудь заесть. Девушка легко вскочила на ноги и принесла ему кусочек сушеного мяса - конины. Александр Сергеевич съел его и, поблагодарив за угощение, встал. Выходя из кибитки, думал: "Бедность кухни - только следствие бедности народа. Придет время - и тайны французской кухни станут доступны всем"*.
* (При описании посещения поэтом калмыцкой кибитки автор воспользовался записью самого Пушкина в "Путешествии в Арзрум" и черновиках к нему.)
Свежие лошади нетерпеливо пофыркивали в упряжке, и Владимир Алексеевич поджидал его. Пушкин сел в коляску, лошади тронулись, и звон бубенцов полетел по степной дороге. Образ молодой красавицы-калмычки, "степной Цирцеи", кочующей в кибитке, еще долго не покидал воображение поэта. Вспомнились ему и другие кибитки - цыганские под Кишиневом, когда он несколько дней бродил с цыганским табором.
Вскоре мысли перенесли его в Петербург, в блестящую залу, где толпа офранцуженных модниц восторгалась Сен-Маром, героем модного романа французского романиста Альфреда де Виньи, романа, к которому Пушкин относился весьма неодобрительно и иронизировал над его героем.
Ставя рядом с петербургскими модницами степную красавицу, он не без удивления находил, что образ этой милой калмычки чем-то близок и дорог ему. И лишь мысли о Натали вновь возвращали его в Петербург и Москву.
Впечатления о встрече в пути с молодой калмычкой вылились наконец в стихи, когда он на три дня задержался в гостинице Владикавказа (ныне г. Орджоникидзе). Это было 22 мая 1829 года.
Здание гостиницы не сохранилось. На том месте, где она стояла, ныне разбит сквер. Бюст Пушкина и декоративное панно с его портретом в овальном медальоне и картинами на горские сюжеты украшают этот сквер.
КАЛМЫЧКЕ
Прощай, любезная калмычка! Чуть-чуть, назло моих затей, Меня похвальная привычка Не увлекла среди степей Вслед за кибиткою твоей. Твои глаза, конечно, узки. И плосок нос, и лоб широк, Ты не лепечешь по-французски, Ты шелком не сжимаешь ног, По-английски пред самоваром Узором хлеба не крошишь, Не восхищаешься Сен-Маром, Слегка Шекспира не ценишь, Не погружаешься в мечтанье, Когда нет мысли в голове, Не распеваешь: Ma dov'e*, Галоп не прыгаешь в собранье... Что нужды! - Ровно полчаса, Пока коней мне запрягали, Мой ум и сердце занимали Твой взор и дикая краса. Друзья! Не все ль одно и то же: Забыться праздною душой В блестящей зале, в модной ложе Или в кибитке кочевой?
* (Но где (первые слова итальянской арии). )
Написав стихотворение, Пушкин свернул вчетверо листок и положил его в карман, с горечью и грустью подумал: "Вот послание калмыцкой девушке, которое, вероятно, никогда не дойдет до нее".
За Владикавказом, у Крестового перевала, Пушкин пересел верхом на казачью лошадь, отправив тяжелую коляску обратно во Владикавказ.
В Карсе, турецкой крепости, уже взятой русскими войсками, с рукописью этого стихотворения случилась забавная история, о которой Пушкин рассказал в "Путешествии в Арзрум".
Торопясь догнать армию, находившуюся уже за Карсом, Пушкин потребовал у офицера-турка лошадей. Офицер в свою очередь потребовал у него документ на право получения лошадей. Сообразив, что офицер по-русски читать не умеет, Пушкин подал ему первый попавшийся в кармане листок. Турок внимательно рассмотрел его и, распорядившись привести лошадей, вернул бумагу. "Это было послание к калмычке" - так закапчивает свой рассказ Александр Сергеевич.
Через семь лет он написал в широко известном стихотворении "Памятник":
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, И назовет меня всяк сущий в ней язык, И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой Тунгус, и друг степей калмык.
Остается добавить, что пушкинское послание калмычке в наши дни дошло до адресата.
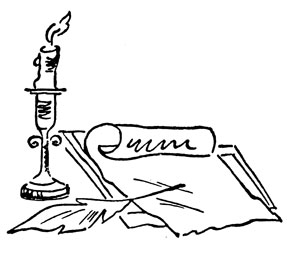
|
ПОИСК:
|
© A-S-PUSHKIN.RU, 2010-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'