
К истории гибели Пушкина
1
Каждый год 10 февраля, в 14 часов 45 минут, на Мойке 12, в старом петербургском доме, люди застывают в скорбном молчании. В последней квартире Пушкина идет гражданская панихида. Прошло уже 137 лет с тех пор, как здесь прозвучали последние слова поэта: "Жизнь кончена... Тяжело дышать, давит..." Но и сегодня его гибель мы переживаем как потерю жившего рядом близкого друга. И так будет всегда. Когда-нибудь изменится все вокруг на набережной Мойки, а к этому дому 10 февраля вновь и вновь будут собираться те, для кого начало сознательной жизни связано с наслаждением пушкинской поэзией.
Понятен интерес, который проявляют миллионы читателей к истории гибели Пушкина, понятно волнение, с которым они узнают о каждой детали, связанной с одним из самых трагических событий русской культуры. Они хотят знать, что именно П. А. Вяземский назвал "адскими кознями", что он имел в виду, когда говорил, что только будущее раскроет, быть может, всю правду. Этими вопросами задаются читатели разной степени осведомленности. Тема настолько острая, настолько волнующая, что ей посвящаются не только исследования, но и пьесы, кинофильмы, романы, стихи.
В последние годы к этой теме с новой энергией обратились не только литературоведы, историки, но также врачи, судебные эксперты, специалисты по оружию: одни занялись поисками неизвестных ранее источников и архивных документов, другие пересматривают факты известные и привлекают незамеченные ранее, третьи стремятся восстановить подробности самой дуэли, ранения Пушкина и его лечения. Как мы видим, аспекты этой темы различные. Не все они одинаково важны, но широта разработки истории гибели поэта весьма характерна. Своеобразно и само состояние проблемы: с одной стороны, накоплено огромное количество материалов, а с другой - в ее освещении чувствуется давление старых подходов, с трудом преодолеваемых.
До сих пор многие с увлечением читают книгу. П. Е. Щеголева "Дуэль и смерть Пушкина". Изданная впервые в 1916 году, она дважды переиздавалась. В свое время ее появление было большим событием. Щеголев сумел обнаружить много новых, исключительно важных материалов. В его повествовании чувствуется талант не только историка, но и психолога. В первых двух изданиях книги акцент был сделан на освещении ближайших поводов к дуэли, на драме ревности. В третьем издании (1928) усилен анализ социальной подоплеки, обстоятельств, которые привели к гибели Пушкина. Но в течение сорока пяти лет, которые прошли после третьего издания книги, по-новому стали рассматриваться многие проблемы биографии Пушкина и общественно-политической жизни России его эпохи. Стало очевидно, что для исследования истории гибели Пушкина нужно обратиться не только к ближайшим, непосредственным поводам дуэли с Дантесом, но и к отдаленным причинам трагедии. Много нового вносят в ее понимание найденные за последние годы материалы и документы.
Очень ценным приобретением оказалась так называемая "Тагильская находка" - письма Карамзиных 1836-1837 годов, где много внимания уделено преддуэльной истории и смерти Пушкина. Об этих письмах подробно говорить нет необходимости, они хорошо известны читателям из статьи Ираклия Андроникова в "Новом мире"* и его же рассказов, которые не раз передавались по радио. Затем была опубликована Пушкинским домом вся переписка Карамзиных с обстоятельными комментариями**. Эта переписка ужасает той картиной непонимания Пушкина даже такими его близкими друзьями, как Карамзины. В ряде писем Пушкин предстает чуть ли не виновником драмы из-за своей ревности и неуживчивого характера. Трагическую историю Пушкина Карамзины сначала рассматривали как обычный светский конфликт между мужем, женой и влюбленным молодым человеком. Читая эти письма, мы с небывалой ранее ясностью ощущаем, какими мучительными были переживания Пушкина, когда он видел, что в семье близких ему людей - Карамзиных - Дантес был принят как желанный гость. И лишь после смерти Пушкина Карамзины поняли, какую непоправимую ошибку совершили они в своих суждениях о поэте и виновнике его смерти.
* ("Новый мир", 1956, № 1, стр. 153-209.)
** (Пушкин в письмах Карамзиных 1836-1837 годов. М.-Л., изд. АН СССР, 1960.)
Эти письма содержат интересные сведения о проявлениях народного горя, о бурном возмущении Дантесом, в то время как в светском обществе было много обвинителей поэта.
Некоторые новые подробности содержатся в дневнике знакомой Пушкина, графини Д. Фикельмон, младшей дочери Елизаветы Хитрово, внучки прославленного полководца Кутузова. Страницы этого дневника, где говорится о Пушкине, опубликованы за рубежом и у нас*. По мере того как она узнавала Пушкина ближе, в ее дневнике появляются восторженные отзывы о нем. О Геккерне есть такая запись: "Господин де Геккерн - голландский посланник, лицо хитрое, фальшивое, мало симпатичное; здесь считают его шпионом г-на Нессельрода - такое предположение лучше всего определяет эту личность и ее характер". Фикельмон пишет также о презрении Пушкина к так называемому "большому свету", о том, что он не дорожил его мнением.
* (См. Н. В. Измайлов. Пушкин в дневнике гр. Д. Ф. Фикельмон - В кн.: Временник Пушкинской комиссии. М.-Л., изд. АН СССР, 1963, стр. 32-37.)
Есть в дневнике и записи о Наталье Николаевне. Говоря о ее необыкновенной красоте, о том, что жизнь открывается перед ней блестящая и радостная, Фикельмон замечает: "...эта женщина не будет счастлива, я в этом уверена! ...ее голова склоняется и весь ее облик как будто говорит: "Я страдаю". Но какую трудную предстоит ей нести судьбу - быть женою поэта, и такого поэта, как Пушкин!" 29 января 1837 года Фикельмон описала события, предшествовавшие дуэли, и с негодованием - поведение Дантеса: он "забывал всякую деликатность благоразумного человека, нарушая все светские приличия, обнаруживал на глазах всего общества признаки восхищения, совершенно недопустимые по отношению к замужней женщине, - она бледнела и трепетала под его взглядами, было очевидно, что она совершенно потеряла возможность обуздать этого человека и он решил довести ее до крайности". После женитьбы на свояченице Пушкина "Дантес, хотя и женатый, возобновил свои прежние приемы, прежние преследования и, наконец, на одном балу так скомпрометировал г-жу Пушкину своими взглядами и намеками, что все ужаснулись, а решение Пушкина (о дуэли. - Б. М.) было с тех пор принято окончательно. Чаша переполнилась, не было никакого средства остановить несчастье".
Интересны документы, которые опубликовал в книге "Пушкин", напечатанной в Париже в 1946 году, Анри Труайя. Труайя приводит, в частности, письма Дантеса к Геккерну*, где Дантес говорит о "бешеной" ревности Пушкина как препятствии для своих ухаживаний за Натальей Николаевной; следовательно, Дантес знал, к чему могут привести его настойчивые ухаживания за женой Пушкина. Но вот что особенно важно. В письме 14 февраля 1836 года Дантес рассказывает о своем объяснении с Натальей Николаевной. Описав свое положение, она (по его словам) сказала ему: "...не просите у меня никогда большего, чем мое сердце, потому что все остальное мне не принадлежит и я не могу быть счастливой иначе, чем уважая свой долг, пожалейте меня..." Дантес замечает по этому поводу в письме к Геккерну: "Очень трудно было поддерживать разговор, ибо речь шла об отказе нарушить свой долг ради обожающего ее человека".
* (В переводе с французского они напечатаны М. А. Цявловским в кн.: "Звенья", кн. 9. М., 1951, стр. 172-185.)
Таковы некоторые материалы, которые не были известны Щеголеву. Но за последние десятилетия появились и другие, о них скажу ниже.
Новейшие исследования истории гибели Пушкина позволили с полной уверенностью определить ее как историю в основе политическую. Отсюда следует: больше внимания нужно уделять не только обстоятельствам, которые предшествовали дуэли, но и отдаленным. Конечно, ближайший повод дуэли - наглое поведение Дантеса и анонимные пасквили. Но Дантес не вел бы себя так, если бы не был осведомлен, что Пушкина ненавидят в империи, ненавидят царь, Бенкендорф, светские круги. Об этом свидетельствуют неизвестные ранее записи императрицы Александры Федоровны, использованные Э. Герштейн в статье "Вокруг гибели Пушкина"* и М. Яшиным в "Хронике преддуэльных дней"**. С другой стороны, мы знаем теперь, что в Зимнем дворце были осведомлены о нарастании конфликта и о том, что предстоит поединок.
* ("Новый мир", 1962, № 2.)
** ("Звезда", 1963, № 9.)
Когда императрица Александра Федоровна узнала, что Дантес хочет жениться на сестре Натальи Николаевны - Екатерине, она писала одной из своих корреспонденток: "Мне бы так хотелось иметь подробности о невероятной женитьбе Дантеса. Что это? Великодушие или жертва? Мне кажется, бесполезно, слишком поздно". Эти слова весьма знаменательны: "слишком поздно"! Значит, в Зимнем дворце знали, что грозит Пушкину.
Один из весьма заметных пробелов в пушкиноведении - недостаточное изучение той острой атмосферы борьбы, борьбы идей, взглядов, мнений, которая сопровождала трагическое событие.
В ее освещении нужно выйти за рамки биографии Пушкина. Гибель великого русского национального поэта - один из крупнейших эпизодов истории этой эпохи. Однако при таком подходе к исследованиям сталкиваемся с большими трудностями. По справедливому замечанию академика Е. В. Тарле, период 1830-х годов представляет собою белое пятно в изучении истории России, он почти не освещен. Авторы, которые пишут об этом периоде, большей частью пользуются одними и теми же фактами, они переходят из одной книги в другую. Считается, что это было время "глухое", относительно "спокойное" для Российской империи, без особых потрясений и крупных политических событий. А между тем к числу таких событий относится гибель Пушкина, резонанс, который она вызвала в России и в других странах. Общественно-политическая борьба, возникшая в связи с этим событием, происходила в России в основном негласно - в письмах, в разговорах и в форме, до сих пор в должной мере не оцененной, - во множестве стихов, этой своеобразной рифмованной публицистике, которая большей частью распространялась в рукописном виде, отражала позиции разных общественных групп и выдвигала различные, часто совершенно противоположные версии о причинах дуэли и гибели поэта. Изучение этого материала позволяет заключить, что наиболее проницательные современники Пушкина не только разгадали многое из того, о чем в Дальнейшем догадывались также исследователи, но оставили ценнейшие, далеко еще не учтенные ответы на темные, спорные вопросы.
2
Прежде всего нас должна заинтересовать реакция тех людей, отблеск судьбы которых лежит на всей судьбе и на творчестве Пушкина, - декабристов, находившихся тогда на каторге и в ссылке. И. Пущин позднее вспоминал: "Весть о гибели Пушкина электрической искрой сообщилась тюрьме - во всех кружках только речи было, что о смерти Пушкина, об общей нашей потере"*. Узнав о гибели друга, Пущин писал об этом событии своему лицейскому товарищу И. Малиновскому так, как говорят об этом сподвижники на поле боя: "Если бы при мне должна была случиться несчастная пушкинская история и если б я был на месте Данзаса (секунданта Пушкина, - Б. М.), то роковая пуля встретила бы мою грудь..." Ярким свидетельством восприятия гибели Пушкина декабристами является и письмо Александра Бестужева. С болью и отчаянием пишет он о трагической кончине поэта, с которым был когда-то в переписке, стихи которого печатал в "Полярной Звезде". Он рассказывает о том, как "не сомкнул глаз в течение ночи", "плакал тогда горячими слезами, как теперь плачу о друге и товарище по оружию, плакал о самом себе". Бестужев заказал панихиду на могиле Александра Грибоедова, за автора "Горе от ума" и за Пушкина. "...Когда священник запел: "За убиенных боляр Александра и Александра", рыдания сдавили мне грудь... Какой жребий, однако, выпал на долю всех поэтов наших дней! Вот уже трое погибло, и все трое какой смертью..."** Трое - это повешенный Рылеев, растерзанный в Персии обезумевшей толпой Грибоедов и убитый Пушкин. Позже об этих же поэтах писал в стихотворении "Три тени" и находившийся в ссылке другой декабрист - Вильгельм Кюхельбекер. По мысли Бестужева и Кюхельбекера, русские поэты погибают от общей причины - "роковой судьбы" не миновать в деспотическом государстве.
* (И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Гослитиздат, М., 1956, стр. 87.)
** (А. А. Бестужев-Марлинекий. Сочинения в 2-х томах, т. II, М., 1958, стр. 673-674 (подлинник по-французски).)
Сохранилось много откликов на смерть Пушкина писателей, художников, артистов, мелких чиновников, простых, безвестных людей, представителей старого поколения и молодежи. Эти отклики убеждают, что за время после разгрома восстания декабристов не было общественно-политического события, которое вызвало бы такое возбуждение, как смерть великого поэта. По словам современника, провинциального гимназиста (С. Ляховича), в письме к другу, весть о "горьком несчастье" "подобно электрической искре потрясла сердце всех россиян и раздалась, как громовое эхо, по всему протяжению Империи, от Балтийского до Черного и Ледовитого морей"*. И это не было преувеличением: скорбная весть проникала в самые далекие окраины не только через лаконичные и сухие казенные известия, но и через рассказы очевидцев, которые волей судеб оказались в Петербурге в те дни. Один из них, мелкий чиновник, приехавший в Петербург с острова Диксон "искать фортуну" и не нашедший ее, писал перед возвращением к себе на родину: "Скажите ученым людям, что поэт Александр Пушкин... на дуэли оставил сей мир... О, Петербург! Сколько в тебе страшного! Вон поскорее из его! Лошадь, повозку и пошел!"**. Таким безвестным людям Россия обязана тем, что вопреки цензурно-полицейским запретам весть о дуэли и смерти Пушкина распространилась по стране.
* ("Известия отделения русского языка и словесности Академии наук", 1907, кн. IV, стр. 199.)
** (Сб. "Пушкин и его время", изд. Гос. Эрмитажа. Л., 1962, стр. 286.)
Недостаточно собран материал зарубежной печати, переписка зарубежных государственных деятелей и других лиц, где так или иначе затрагивается это событие. А. Тургенев в августе 1837 года писал из-за границы: "Удивительно, как слава Пушкина универсализировалась: тут нет ни одного образованного человека... который не спросил бы меня о нем, не пожалел о нашей потере"*.
* ("Литературное наследство", т. 58, стр. 148.)
В чем причина того, что это событие так сильно взбудоражило Россию и отозвалось повсюду? В том, что погиб не только гениальный художник слова, но и виднейший выразитель передового общественного мнения, тот, кто был властителем дум, кто отражал настроения той части общества, которая была подавлена террористическим режимом, но продолжала мечтать, надеяться, ненавидя весь уклад николаевской монархии.
Вот почему многие современники рассматривали гибель поэта как событие политическое и в этом видели причину массового отклика народа, причину такого ранее небывалого явления, как молчаливая демонстрация многотысячной толпы у дома, где жил поэт. Один из свидетелей этого события, А. М. Языков, писал 2 марта 1837 года: "Это совершенно небывалое явление! Теперь ясно, что и у нас литературный талант есть власть, и этот вывод всего важнее в этом происшествии". П. Н. Дивов, человек реакционно настроенный, заключал: "...Было бы отрадно видеть это всеобщее сочувствие, если бы это была только дань, отдаваемая его таланту, но, к сожалению, оно является скорее выражением сочувствия тем либеральным идеям, какие он проповедовал"*. О политической основе царившего общественного возбуждения свидетельствуют и показания иностранных наблюдателей. Таково, например, донесение-депеша Вюртембергского посланника Гогенлоэ - Кирхберга с приложением весьма интересной характеристики Пушкина: "Пушкин замечательнейший поэт, молва о котором разнеслась особенно благодаря тому глубокому трагизму, который заключался в его смерти. Пушкин, представитель слишком передовых для строя своей родины взглядов, был на разные лады судим своими соотечественниками..." Именно этим объясняется, что оппозиционная часть русского общества "превозносит его до небес и с восторгом и благоговением относится к его памяти". При перечислении причин гибели Пушкина здесь отмечена его обличительная деятельность, его "остроумные и язвительные намеки", сатирические выпады против самых высокопоставленных фамилий в России. "Вот истинные преступления Пушкина". Отмечается и политическая позиция поэта в последние годы. "Назначением в камер-юнкеры Пушкин почитал себя оскорбленным, находя эту честь много ниже своего достоинства. С этой минуты взгляды его снова приняли прежнее направление, и поэт снова перешел к принципам оппозиции"**. (Кстати говоря, и сам Пушкин сказал за несколько лет до смерти своему приятелю А. Н. Вульфу, что "возвращается к оппозиции".)
* ("Исторический вестник", 1883, т. 14, стр. 541.)
** (Запись в дневнике Дивова 27 января 1937 года - "Русская старина", 1900, № 11.)
Исследователи истории гибели Пушкина, как правило, отмечают, что для современников она была окутана тайной и впоследствии приходилось выяснять заново всю картину. Изучая сохранившиеся материалы, приходишь, однако, к выводу, что современникам этой эпохи основные причины гибели Пушкина были ясны. Надо лишь при анализе сохранившихся свидетельств учитывать, Что в борьбу вокруг трактовки этих причин были вовлечены разные политические силы, высказывались разные, иногда грубо тенденциозные взгляды. Среди показаний людей этого времени (хотя, конечно, многое оставалось неясным) есть и такие, которые представляют особую ценность.
Для классификации мнений о дуэли и смерти поэта у нас имеются точные и верные указания. Наблюдательный и умный А. В. Никитенко записал в дневнике 30 января 1837 года: "Какой шум, какая неурядица во мнениях о Пушкине! Это уже не одна черная заплата на ветхом рубище певца, но тысячи заплат красных, белых, черных, всех цветов и оттенков". Заметьте: красные, белые, черные, цвета весьма символические!* Другой современник, А. Я. Булгаков, директор московской почты, рассказывал в письме к дочери: "Трагическая кончина Пушкина все время занимает всех. В Петербурге - две партии, вполне определенные и крайне противоположные: одна - в пользу убитого противника, другая - в пользу того, кто пережил"**. Две партии! "Партия" Пушкина, с одной стороны, партия убийцы и всех, кто ему сочувствовал, - с другой. Борьба мнений, самая острая, отражалась тогда, как я уже упоминал, в рукописной стихотворной публицистике. Так, В. Макаров восклицал:
* (П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, М.-Л., 1928, стр. 391-393.)
** (А. В. Никитенко. Дневник, т. I. М., Гослитиздат, 1951, стр. 194.)
Друзья, я видел труп холодный Певца возвышенных речей, И слышал я в толпе народной Язык коварства и страстей. Один бессмысленно взирает На труп великого певца, Другой, безумец, осуждает И говорит: она, она* Я думал: о, язык коварный, Ты никого не пощадишь, О, человек неблагодарный, Не знаешь ты, пред кем стоишь.
* ("Красный Архив", 1929, т. 33, стр. 226.)Всему вина.
Стихотворение заканчивается призывом прекратить оскорбляющие убитого толки. Действительно, оскорблением памяти погибшего, а также желанием выгородить истинных виновников была продиктована своеобразная, проводившаяся в разных формах реакционной "партией" и обывателями пропаганда таких версий, согласно которым вина целиком перекладывалась на жену убитого, на неудачный брак, на вспыльчивость и "африканский характер" поэта, будто бы неуживчивого, неблагодарного даже по отношению к царю, который его "любил" и под конец "облагодетельствовал".
В какой же версии был заинтересован царь, правительственные и светские круги? Об этом можно судить по официальному сообщению. В опубликованном тогда "высочайше конфирмированном" решении военного суда над Дантесом утверждалось: поводом к дуэли было то, что камер-юнкер его императорского величества Пушкин был раздражен "поступками Геккерена", которые вели к нарушению "семейственного спокойствия". Таким образом, пытались объяснить все, что произошло, как рядовой конфликт между ревнивым мужем и нарушителем "спокойствия". Эта официозная, правительственная версия распространялась в устной и письменной форме, в стихах, которые посвящены обличению Натальи Николаевны и восхвалению государя - "ангела", который "простил поэта", "обласкал семью" и т. д. Например, в одном из ходивших по рукам стихотворении "На Н. Н. Пушкину" читаем:
Не смыть ей горькими слезами С себя пятна, Не отмолиться ей мольбами: Жалка она.
Эта и близкие ей версии горячо опровергались представителями (говоря словами упомянутого Булгакова) другой "партии". В борьбе мнений вырисовывается иная, основанная не на предположениях, а на фактах история гибели поэта. Разумеется, в печати эта борьба не отражалась. Она происходила, кроме уже названных выше, и в формах весьма своеобразных: это так называемые "толки", "слухи", "разговоры". "Это происшествие возбудило тьму толков, наибольшей частию самых глупых", - с неудовольствием писал царь в одном из писем (подразумевая под "глупыми", конечно, все версии, противоречившие официальной)*. "Слухи" - термин полиции, III отделения; оно имело специальных агентов по "собиранию" слухов, анализу их и вылавливанию "распространителей". В атмосфере шпионажа рассуждать об истинных причинах смерти Пушкина было небезопасно. Например, один из корреспондентов литератора и историка М. П. Погодина Н. Любимов предупредил его: "Пожалуйста, ради бога, воздержитесь от всякого излишнего проявления и горестей и радостей. Совершайте тризну во глубине души вашей..."** И все же общество бурлило, столкновения двух "партий" выливались в острые споры. Для полноты картины еще предстоит изучить многие материалы. Факты могут быть обнаружены там, где их и не ждешь. Вот один из примеров: в книжке "Действительное путешествие в Воронеж" Ивана Краевича, напечатанной в 1838 году, содержится любопытный рассказ автора, как он заехал в провинциальную глушь и как начался спор о Пушкине и о том, как кто-то обелял врага Пушкина - доносчика Булгарина. (Кстати говоря, гибель Пушкина как торжество булгаринской клики, травившей Пушкина, отмечена в ряде других откликов.)
* (То есть Наталья Николаевна.)
** ("Пушкин и его современники", вып. XIV, стр. 29.)
Те, кто считал себя вправе встать на защиту Пушкина от имени народной России, не ограничивались, однако, домашними разговорами. Хотя в России тогда не было тайного общества, шеф жандармов Бенкендорф не ошибся, когда почувствовал, что анонимное письмо, полученное графом А. Ф. Орловым - одним из сподвижников царя, - выражает мнение многих. Письмо требовало грозного суда и напоминало о том, что он грядет, - мотив, который звучал и в стихотворении Лермонтова "Смерть поэта". Автор письма говорил "именем отечества"! Он утверждал, что "лишение всех званий, ссылка на вечные времена в гарнизоны солдатом Дантеса" (то есть меры, которые на самом деле не угрожали убийце) "не может удовлетворить русских за умышленное, обдуманное убийство Пушкина". "Вы видели вчерашнее стечение публики, в ней не было любопытных русских, следовательно, можете судить об участии и сожалении к убитому", - эти слова верно оценивали массовое хождение к месту, где лежал усопший поэт. "Мы горько поплатимся за оскорбление народное, и вскоре..." - продолжал автор, а внешне благонамеренные фразы, которые мелькали в этом письме, были верно поняты царем как осторожное прикрытие (на случай, если бы имя автора раскрылось) прямой политической угрозы. Менее резкое, также анонимное письмо получил В. А. Жуковский, ко и здесь содержалось требование возмездия. Автор призывал Жуковского: "...по близости своей к царскому дому употребите все возможное старание к удалению отсюда людей, соделавшихся через таковой поступок ненавистными каждому соотечественнику Вашему, осмелившихся оскорбить в лице покойного - дух народный"*.
* ("Литературное наследство", т. 16-18, стр. 718.)
В происходившей тогда борьбе "партия" Пушкина (несмотря на пестроту политической позиции) преследовала две цели: протест против сведения причин трагического происшествия к вине Натальи Николаевны и привлечение внимания к действительным причинам - долголетней травле Пушкина, враждебному отношению к нему правящей клики, то есть той обстановке, когда Дантес убил поэта, по существу ничем особенно не поплатившись.
Опровержение первой, "семейственной" причины как основной проходит во многих письмах современников. Упоминавшийся выше корреспондент Погодина Любимов утверждал, что жена Пушкина "ни в чем не виновата, разве в том, что позволила себе любить свет и обманчивые его удовольствия (в чем почти все женщины виновны), а более ни в чем. Прощаясь с нею, Пушкин умолял ее, чтобы она не упрекала себя в его смерти, ибо она ни в чем не виновата". (Как известно, эти слова Пушкина засвидетельствовали и другие, в том числе присутствовавшие возле умиравшего.) Далее в письме с возмущением говорится: "Тем не менее составители скандалезных хроник, даже теперь, не стыдятся выдумывать всякую всячину, но кто знает дело, тот знает, что это вздор и сущая клевета, и долг всякого честного человека уничтожать подобные слухи, которыми только возмущают тень Пушкина"... Точка зрения автора письма ясна: "...Пушкин, можно сказать, пал жертвой петербургского общества и людской злобы"*. Против "семейственной" версии возражали иногда и те, кто считал, что Наталья Николаевна все же была не безупречна. Например, П. А. Бестужев в письме к А. А. Бестужеву говорил: "...Жена его более ветрена, чем преступна; но если в обществе, где мы живем, ветреность замужней женщины может сделаться преступлением, то она виновата и тем более, что она знала характер своего мужа, это был пороховой погреб"**.
* (Оба письма см. в кн. П. Е. Щеголева "Дуэль и смерть Пушкина", стр. 225-226.)
** ("Памяти П. Н. Сакулина". М" 1931, стр. 313.)
Чтобы читатель мог представить себе переживания Натальи Николаевны и судить о ней со слов одной из близких приятельниц Пушкина В. Ф. Вяземской, приведу рассказ из ее малоизвестного (хотя и опубликованного) письма, предположительно к Е. Н. Орловой (письмо описывает последние минуты Пушкина и его смерть).
"...Я услышала, как вошла его жена. Я бросилась к ней и остановила ее в дверях: она посмотрела на меня с ужасом. "Что? Кончено?" спросила она меня. Я не отвечала. Она повторила те же слова и хотела пройти. Тогда я сказала ей: "Нет еще". Она испустила ужасный стон и упала навзничь. Виельгорский и тетка ее вынесли. Я оставалась еще около Пушкина, невольно я дожидалась проявления признака жизни. Слезы, которые проливались всеми вокруг, вывели меня из моего печального уныния. Я опять подошла к Натали, которую нашла как бы в безумии. - "Пушкин умер?" Я молчала. - "Скажите, скажите правду!" - Руки мои, которыми я держала ее руки, отпустили ее, и то, что я не могла произнести ни одного слова, повергло ее в состояние какого-то помешательства. "Умер ли Пушкин? Все ли кончено?" - Я поникла головой в знак согласия. С ней сделались самые страшные конвульсии, она закрыла глаза, призывая своего мужа, говорила с ним громко; говорила, что он жив; потом кричала: "Бедный Пушкин! Бедный Пушкин! Это жестоко, это ужасно! Нет, нет! Это не может быть правдой! Я пойду посмотреть на него!" Тогда ничто не могло ее удержать. Она побежала к нему, бросилась на колени, то склонялась лбом к оледеневшему лбу своего мужа, то к его груди, называла его самыми нежными именами, просила у него прощения, трясла его, чтобы получить от него ответ. Мы опасались за ее рассудок. Ее увели насильно. Она просила к себе Данзаса. Когда он вошел, она со своего дивана упала на колени перед Данзасом; целовала ему руки, просила у него прощения, благодарила его и Даля за постоянные заботы их об ее муже. "Простите!" вот что единственно кричала эта несчастная молодая женщина, которая, в сущности, могла винить себя только в легкомыслии, лег комыслии, без сомнения, весьма преступном, потому что оно было одной из причин смерти ее мужа"*. Только одной из причин...
* ("Декабристы и их время" под редакцией М. П. Алексеева и Б. С. Мейлаха. М.-Л., издательство АН СССР, стр. 97.)
Дополнением к этому письму могут служить ставшие известными недавно страницы дневника графини Фикельмон: "...какая женщина посмела бы осудить госпожу Пушкину? - пишет она, - ни одна, потому что все мы находим удовольствие в том, чтобы нами восхищались и нас любили, - все мы слишком часто бываем неосторожны и играем с сердцем в эту ужасную и безрасчетную игру. Мы видели, как начиналась среди нас эта роковая история, подобно стольким кокетствам, мы видели, как она росла, увеличивалась, становилась мрачнее, сделалась такой горестной, - она должна была бы стать для общества большим и сильным уроком тех последствий, к которым может привести необдуманность друзей, но кто бы воспользовался этим уроком? Никогда, напротив, петербургский свет не был так кокетлив, так легкомыслен, так неосторожен в гостиных, как в эту зиму..."*
* ("Новый мир", 1931, № 12, стр. 192.)
3
Борьба "двух партий" вокруг версий о гибели Пушкина нашла довольно полное выражение, как уже упоминалось выше, во многих стихах, большей частью не предназначавшихся для печати*. Из-за цензурно-полицейского запрета этой темы такие стихи как бы заменяли гласное общественное обсуждение трагического события. Авторами их были, за немногими исключениями, люди, не претендовавшие на звание поэта, - то, что они писали, было лишь средством выражения их мнений и настроений.
* ("Временник Пушкинской комиссии", 1963, стр. 33.)
Стихи, проникнутые гневом и гражданской скорбью, противостояли иным, где прославлялись благодеяния, оказанные Пушкину императором. Так, Н. Демидов уверял:
У русского царя внимательное око Поэта берегло с любовию отца...
В таком же духе рисует отношения Николая I к Пушкину А. Норов:
Последний дал певцу привет Без скорби перейти в тот свет И умереть христианином...
Даже Федор Глинка в скорбном "Воспоминании о пиэтической жизни Пушкина", хотя и говорил о "роке", подстерегавшем поэта, не удержался от такого пассажа:
Ужель ни искренность привета, Ни светлый взор царя-отца Не воскресят для нас поэта?
С этим дифирамбом царю стихи были даже дважды напечатаны в 1837 году. (Впрочем, Глинка, осужденный в свое время в ссылку по делу декабристов, уже в 1826 г. напечатал, приветственное стихотворение по поводу восшествия Николая I на престол.)
Двойственными по содержанию были такие стихи, как, например, "На смерть Пушкина" А. Родзянко. Здесь и обличение Дантеса как "злодея", и призыв "музы мести", и надежда, что мстителем будет "венчанный россов представитель", то есть сам император.
В потоке стихов так или иначе нашли отражение все версии и толки о причинах гибели Пушкина и о его кончине. Но только знаменитое стихотворение Лермонтова "На смерть поэта" осталось, благодаря смелости обличения и художественной силе, непревзойденным памятником времени. Этот шедевр поэтического творчества должен рассматриваться и как замечательный исторический источник при изучении обстоятельств гибели Пушкина, образец редкостного проникновения в суть событий. Лермонтов, безусловно, хорошо представлял себе и всю картину общественного возбуждения, вызванного смертью Пушкина, и самые причины трагедии*.
* (Часть стихотворений на смерть Пушкина собрана в сборниках, составленных в Каллашем: "Русские поэты о Пушкине". М., 1899; "Puschkiniana", выпуск 1, Киев, 1902; выпуск 2, 1903. За время, прошедшее после выхода этих сборников, обнаружилось значительное число неизвестных ранее стихотворений.)
Сам Лермонтов в ходе следствия рассказал:
"Я был еще болен, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина. Некоторые из моих знакомых привезли ее ко мне, обезображенную разными прибавлениями. Одни - приверженцы нашего лучшего поэта - рассказывали с живейшей печалью, какими мелкими мучениями, насмешками он долго был преследуем и, наконец, принужден сделать шаг, противный законам земным и небесным, защищая честь своей жены в глазах старого света. Другие, особенно дамы, оправдывали противника Пушкина, называли его благороднейшим человеком, говорили, что Пушкин не имел права требовать любви от жены своей, потому что он был ревнив, дурен собою - они говорили также, что Пушкин негодный человек и проч. Не имея, может быть, возможности защищать нравственную сторону его характера, - никто не отвечал на эти последние обвинения.
Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей, которые нападали на человека, уже сраженного рукою божией, не сделавшего им никакого зла и некогда ими восхваляемого"*.
* (Некоторые пути осведомленности Лермонтова выяснены И. Л. Андрониковым в его книге "Лермонтов". М., 1964, стр. 16-44.)
Лермонтов своим стихотворением стремился опровергнуть всякого рода клеветнические толки, связанные с гибелью Пушкина, и дать оценку ее причин. В "Смерти поэта" эти причины раскрыты с такой полнотой, которая могла быть достигнута лишь многими десятилетиями спустя. Главная причина - столкновение Пушкина с враждебной средой ("восстал он против мнений света"), главные виновники - властители и те, кто им служили, - "свободы, гения и славы палачи", кто "жадною толпой" стояли у трона, а не только Дантес. Обличаются здесь и клеветники и лицемеры с их "жалким лепетом оправдания": это они способствовали приближению трагического конца, раздувая "чуть затаившийся пожар". Наконец, не забыта здесь и драма ревности (аналогия с Ленским - "добыча ревности глухой"). Таким образом, здесь сказано почти о всех обстоятельствах, подготовивших гибель Пушкина. И, что особенно важно, в обстановке, когда создавалась легенда о просветленной христианским всепрощением кончине поэта, Лермонтов говорил, что он умер, не примиренным, а с "жаждой мести", непреклонный, "поникнув гордой головой". Этот мотив повторяется и во второй части стихотворения: умер "с напрасной жаждой мщенья"...
Перевод поэтического произведения на язык прозы, когда это приходится делать при исследовании реальных исторических ситуаций, неизбежно обедняет глубину и многозначность его содержания. Но для понимания действительных причин гибели Пушкина роль стихов Лермонтова исключительно важна. Немного найдется произведений, в которых аналитическое и поэтическое начала соединялись бы с таким совершенством: каждый из мотивов лермонтовского стихотворения можно иллюстрировать теперь историческими фактами, документами, мемуарами современников.
Ни один из поэтов этой эпохи не мог, конечно, соревноваться с Лермонтовым, но идеи этого стихотворения отразились и в других стихах, которые также нельзя было тогда печатать. Среди них - "На смерть поэта"
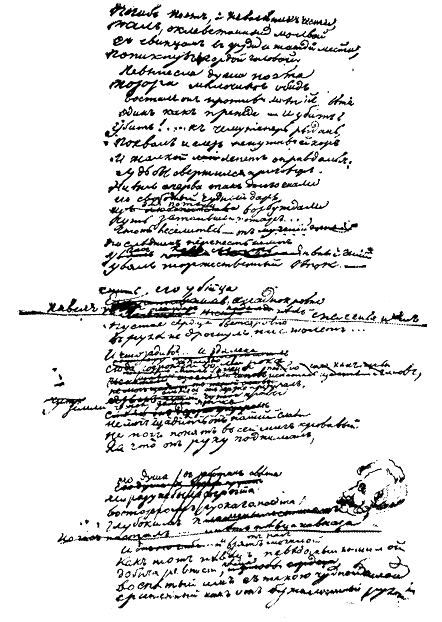
Черновой автограф Лермонтова 'Смерть поэта'
Н. Огарева, близкое по мотивам Лермонтову. Кроме того, Огарев прямо называл царя виновником трагедии:
...тот, чья дерзкая рука, Полмир цепями обвивая, И несогбенна и крепка, Как бы железом облитая, Свободой дышащую грудь Не устыдилась своевольно В мундир лакейский затянуть, Он зло и низостно и больно Поэта душу уязвил, Когда коварными устами Ему он милость подарил, И замешал между рабами Поэта с вольными мечтами.
Другой поэт - А. Креницин - восклицал, клеймя Дантеса ("пришелец", "барона пажик развращенный") и рисуя героический облик Пушкина:
О, сколько сладостных надежд И дум заветных, и видений, На радость сильных и невежд, Ты в гроб унес, могучий гений. Во мраке ссылки был он тверд, На ложе счастья - благороден, С временщиком и смел, и горд.
А. Гвоздев в форме ответа Лермонтову на его стихи продолжил обличие "бездушного света", стаи "вран у ног царя". Э. Губер повторил мотивы о "суде веков" над убийцей "с клеймом проклятья на челе". Стихи И. Данилевского, комбинируя мотивы и образы пушкинских стихов, проклинали тех, кто "безвинным омрачит укором" тень поэта, воздавали хвалу певцу свободы, окруженному всенародной любовью.
Напечатать стихотворения, содержавшие хотя бы слабые намеки на истинных виновников гибели поэта, было невозможно, даже в случаях компромисса с цензурой, когда вынужденно смягчалась острота скорби и негодования. А. Полежаев рассчитывал открыть свой сборник стихов поэмой "Венок на смерть Пушкину". Исполинскую фигуру поэта он видит в кругу исторических деятелей России, начиная от Петра. О подвиге Пушкина он мог сказать только языком условным:
Он понял тайну вдохновений, Восстал, как новая стихия, Могуч, и славен, и велик, И изумленная Россия Узнала гордый свой язык.
Пушкин - "народной гордости кумир", он умер непокоренным:
...Взгляните, как свободно Это гордое чело.
Об убийстве здесь сказано намеками - упоминается "грозная стрела", роковая судьба - "седой палач", "незнакомец", сразивший поэта "беспощадной косой". Но Полежаеву не помогла даже уступка цензуре - строки о "великодушном" царе. Стихотворение "На смерть Пушкина" и сборник в целом были запрещены. Книга появилась в искаженном виде только после его смерти.
Другое стихотворение на смерть Пушкина, написанное Тютчевым, поэтом, репутация которого с точки зрения властей не могла подвергаться сомнению, - "29 января 1837 года" - увидело свет только в 1875 году. Дантес был назван здесь цареубийцей, и уже потому нельзя было рассчитывать на печать. Лишь 38 лет спустя стали известными строки тютчевских стихов:
Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет.
Я коснулся лишь небольшой части стихотворений, связанных с историей гибели Пушкина, с различными оценками событий, с различными настроениями, но очевидно, что при исследовании этой истории нельзя игнорировать материал такого рода, как это было до сих пор. Одной из причин такого отношения к этим стихам (если говорить об основном потоке) - весьма невысокое их литературное качество, но ведь писали их большей частью не поэты, а те, кто лишь воспользовался стихотворной формой для выражения своих чувств и оценки событий.
4
Материалы, которыми располагает пушкиноведение, подтверждают, что версия о "раскаянии" Пушкина перед смертью не соответствует действительности.
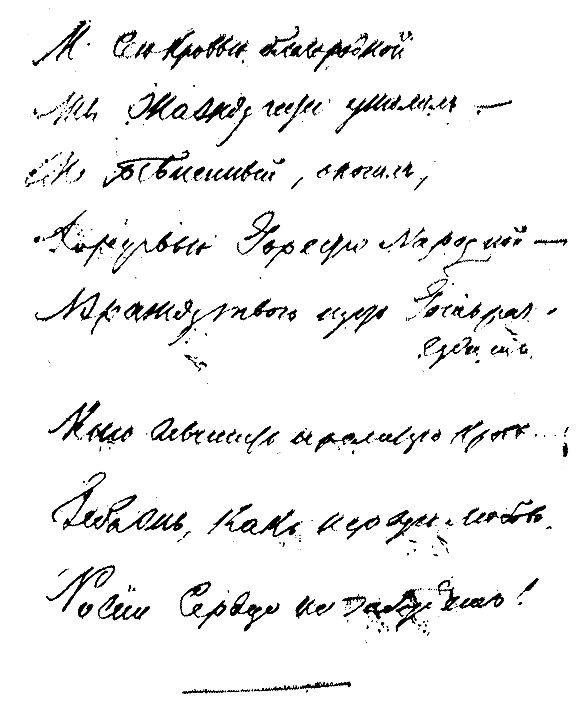
Страница стихотворения Тютчева '29 января 1837 года' (автограф)
В статье Жуковского, написанной в форме письма к отцу поэта и напечатанной в 1837 году под заглавием "Последние минуты Пушкина", смерть его была представлена как кончина христианина и человека, беспредельно преданного монарху. В статье курсивом была выделена фраза, которую Пушкин будто бы сказал умирая: "скажи государю, что мне жаль умереть; был бы весь его"*. Эту же фразу Вяземский в письме к А. Я. Булгакову 5 февраля 1837 года, рассчитанном на широкое распространение, повторил в несколько другой редакции: "скажите государю, что жалею о потере жизни, потому что не могу изъявить ему мою благодарность, что я был вы весь его!" (курсив Вяземского)**.
* ("Дело по секретной части Военного министра о непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтовым...", лл. 24-25 (впервые цитировано в кн.: П. А. Висковатый. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1891, стр. 248).)
** ("Современник", 1837, т. 5, стр. VIII.)
Эту фразу Пушкина Жуковский и Вяземский стали распространять с поразительной поспешностью, письменно и устно. Но еще П. Е. Щеголев на основе подробнейшего, скрупулезного анализа различных редакций этой статьи Жуковского и других данных подверг критике их полную достоверность. Щеголев приводит также слова Плетнева, писавшего Я. Гроту о статье Жуковского "Последние минуты Пушкина": "Я был свидетелем этих последних минут поэта. Несколько дней они были в порядке и ясности у меня на сердце. Когда я прочитал Жуковского, я поражен был сбивчивостью и неточностью его рассказа; тогда-то я подумал в первый раз: так вот что значит наша история..."*.
* ("Русский архив", 1879, № 6, стр. 244.)
Пойдем же дальше в попытках восстановить эту историю в ее истинности.
Желание добиться как можно более широкого распространения версии о раскаянии Пушкина, его преданности царю, по-видимому, и заставило Вяземского излагать эту версию людям, заведомо скомпрометированным в общественном мнении, но зато известным в качестве опытных распространителей слухов. Так, одно из писем на эту тему Вяземский написал А. Я. Булгакову, человеку бесчестному. Ранее, в 1834 году, будучи московским почтдиректором, Булгаков передал Бенкендорфу перлюстрированное письмо Пушкина к жене, где тот непочтительно отзывался о русских царях, в частности о Николае I, о том, что тот "упек" его в "камерпажи". Письмо стало известно Николаю и грозило Пушкину новыми карами. Узнав обо всем этом, Пушкин разорвал с Булгаковым. Вяземский все это знал и все же избрал его распространителем версии о раскаянии Пушкина. В письме к Булгакову 5 февраля 1837 года Вяземский развивает ту же версию о преданности Пушкина царю. В заключение Вяземский просил Булгакова показывать письмо всем, кому заблагорассудится. Пытаясь уверить в том, что в письме все истина, Вяземский дважды (что само по себе делало эти уверения сомнительными) повторял: "ручаюсь совестию, что нет тут лишнего слова и никакого преувеличения"; "повторяю, все в нем сказанное есть сущая, но разве не полная истина"*.
* (П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, стр. 161.)
Булгаков понял замысел Вяземского - распространить его письмо как можно шире и ответил ему: "Ты желал гласности большой письму твоему, и желание твое сбывается с возрастающей всякий день прогрессиею. Мне нет отбоя от требований. Я не говорю уже о Сонцове, Ив. Ив. Дмитриеве, княгине Четвертинской, Денисе Давыдове, Корсакове, Нащокине, коим даны копии, но теперь успевать списывать нет уже возможности, ибо люди, даже мне почти незнакомые, пишут учтивые записки, прося позволения приехать прочесть письмо твое. Что удивительно? Это то, что не один образованный круг оказывает участие сие, но купцы, мелкий народ. Например, мои почтамтские. Когда им было читать Пушкина и им ли его хорошо понимать, работая с утра до вечера всякий день и не имея иное в голове, кроме цифрь и имена городов? Ну, нет! Р. пришел ко мне доложить, что многие жены наших чиновников просят позволения списать письмо для себя. "Позволите ли?" - "Быть так!" Письмо твое действительно имеет великую цену, я и сам за большую огласку, оно приобретает вес еще больший, будучи писано свидетелем, очевидцем, другом покойника и человеком, веры достойным, который был тут не один подвержен справедливым опровержениям. Я скажу тебе откровенно, что никому в мысль не приходит изъявлять малейшее сомнение в показаниях твоих"*.
* ("Русский архив", 1879, № 6, стр. 246. О циничном отношении Булгакова к смерти Пушкина свидетельствует его письмо Вяземскому 6 февраля 1837 года, где он писал: "...и, брат, поверь, все к лучшему! Пушкин, прожив 50 лет, не принес бы семейству той пользы, которой доставил смертью его..." "Красный Архив", 1929, кн. 33, стр. 227.)
Таким образом, письмо Вяземского превратилось в нечто подобное рукописной листовке, оно размножалось кем угодно без всякого разбора... Но сам-то Булгаков, лицемерно высказывая доверие показаниям Вяземского, в то же время прекрасно понимал их цель и им, конечно, не доверял. Об этом он откровенно писал своей дочери: "Заметны те огромные усилия, которые он (Вяземский. - Б. М.) делает, чтобы реабилитировать своего друга в моем сознании. Это делает ему честь, но я всегда отличу Пушкина от Вяземского"*. Не доверял и отец Пушкина, Сергей Львович, письмам Вяземского и Жуковского о кончине своего сына: "Письма, написанные его друзьями некоторым особам сюда, признаюсь вам, меня не поддержали, - утверждал он. - Все это лишь газетные статьи, и сразу заметно, что писали они в намерении быть прочитанными публикой; к тому же они никогда не упускают закончить следующими словами: дайте это прочитать, кому найдете уместным. Письмо на 8 страницах, которое я последним получил от Жуковского, написано в том же духе"**. Очень выразительно определил один из приятелей Пушкина Н. Кривцов версию, созданную Вяземские и Жуковским: Он назвал ее "булгаковским блюдом" и откровенно высказал свое мнение Вяземскому***.
* ("Красный архив", 1929, т. 33, стр. 227.)
** (Там же, стр. 229.)
*** ("Пушкин и его современники", вып. 21-22, стр. 339.)
Да, невероятно тяжело было в то время Жуковскому, Вяземскому, А. Тургеневу: отчаяние, вызванное трагической потерей любимого друга; тревожные думы о семье умершего; возмущение действиями жандармерии. Сложнейшая психологическая коллизия! Нет сомнения, что особенно тяжело было Александру Тургеневу. Ему выпала горестная судьба и одновременно исполнение долга - сопровождать гроб Пушкина. Но вместе с тем это было сделано по личному поручению Николая I. В дневнике Тургенева 16 февраля есть запись, в которой он с явным удовлетворением зафиксировал милостивое отношение к нему царя, отметив даже такую деталь: царь взял его руку, "пожал ее крепко. Все слышали, все видели..."* Что чувствовал друг Пушкина при этих знаках царственного внимания?..
* (Литературное наследство, т. 58, стр. 147.)
Между тем версия, которую распространяли Жуковский и Вяземский, оказала отрицательное влияние на отношение современников к Пушкину.
Декабрист Горбачевский писал в своих записках: "Действительно, не следовало доверять Пушкину. Он сам сказал: "Я был бы весь его". Что это, - слова народного поэта?"* Другой декабрист - Александр Бестужев - по этому же поводу спрашивал брата Павла: "Отчего Пушкин худо умер?" Это мне пишут люди с понятием"**.
* (П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, стр. 299.)
** (Записки декабриста И. И. Горбачевского. М., 1966, стр. 300.)
Еще до сих пор порой всплывает версия, созданная людьми, которые действительно были его друзьями, которые были потрясены его смертью, но тем не менее сочинили эту легенду. Для того чтобы полнее прояснить ее возникновение, надо взглянуть на нее не только психологически. Друзья хотели, чтобы Николай I после смерти Пушкина материально обеспечил его семью. Ведь положение Пушкина в последнее время было настолько тяжелым, что он был вынужден заложить вещи. Забота друзей о семье - фактор важный. Но объяснять сочинение легенды о "раскаянии" Пушкина только этим нельзя.
Все-таки их собственные взгляды, особенно в 30-е годы, весьма отличались от взглядов и позиции Пушкина*. Действовала и обстановка, когда царь и Бенкендорф недвусмысленно намекали, что вызванному смертью поэта общественному возмущению способствовали Жуковский и Вяземский.
* ("Отечественные записки", 1860, т.. 131, стр. 73.)
Среди мотивов, двигавших их стремлением "реабилитировать" поэта в глазах правительства, был, вероятно, и еще один - желание обеспечить возможность посмертного издания его сочинений (оно вышло, хотя и с грубейшими искажениями, которые были частично вызваны тем, что фактический редактор этого издания - Жуковский приспосабливал тексты к цензурным условиям и соответственно "исправлял" их).
5
Теперь - о некоторых подробностях дуэли и вопросах, которые часто задают читатели в связи с высказанными в печати гипотезами.
В литературе не раз возникали недоумения, почему Дантес оказался раненным так легко. В самом деле, здесь есть неясности. Дантес объяснял свое спасение тем, что пуля, ранив руку, ударилась о пуговицу и отскочила. Он же уверял, что она продавила два ребра и причинила контузию. В рапорте штаб-лекаря Стефановича констатируется, что наружных следов контузии незаметно. По этому поводу до сих пор бытуют разные версии и догадки.
Еще в 1938 году в журнале "Сибирские огни" была напечатана статья инженера М. Комара под названием "Почему пуля Пушкина не убила Дантеса". Здесь доказывалось, что пуля, выпущенная на расстоянии десяти - одиннадцати шагов и пробившая мягкую часть руки Дантеса, должна была нанести большие повреждения. Комар утверждает, что Дантес мог спастись "только благодаря тому, что он вышел на дуэль в панцире, надетом под мундир в виде корсета"*. Эта гипотеза популяризируется. О ней писал Иван Рахилло в "Рассказе об одной загадке", напечатанном в 1959 году в журнале "Москва", а затем включенном (с небольшими сокращениями и изменениями) в его же книгу "Московские встречи".
* (В 30-е годы отношения Вяземского с правительством стали налаживаться: прежнее его вольнолюбие постепенно тускнеет. В 1831 году он получает почетное придворное звание камергера (от которого ранее отказывался) и назначается вице-директором Департамента внешней торговли.)
И. Рахилло рассказывает историю догадки о наличии у Дантеса защитного приспособления, которая возникла у В. В. Вересаева под влиянием встречи в Доме творчества писателей в Малеевке с неким "архангельским гостем" (фамилия не указана). Этот неизвестный гражданин "...случайно наткнулся на запись не то в домовой книге, не то в книге для приезжающих - на имя (в статье опять-таки не указанное. - Б. М.) некоего человека, приехавшего от Геккерна и поселившегося на улице, где жили оружейники". По словам Рахилло, на Вересаева произвело большое впечатление также письмо, полученное им с Урала от какого-то инженера (фамилия снова не названа, это был инженер Комар, упомянутый мною выше). В этом письме Вересаеву инженер рассказал, что он "...сходил в музей и достал там пистолет пушкинских времен", и приводит описание своего эксперимента: "Устроив манекен и надев на него старый френч с металлической пуговицей, я зарядил пистолет круглой пулей и с десяти шагов, как это было на дуэли у Пушкина, выстрелил в пуговицу... пуля не только не отлетела от пуговицы, а вместе с этой самой пуговицей насквозь прошла через манекен"*.
* ("Сибирские огни", 1938, № 1, стр. 136.)
Через двадцать пять лет после появления статьи М. Комара и через четыре года после обнародования рассказа Рахилло, в журнале "Нева" (1963, № 2) появилась заметка В. Сафронова "Поединок или убийство", в которой с некоторыми изменениями и дополнениями утверждается версия, изложенная Комаром и Рахилло. По мнению Сафронова, Дантес обезопасил себя, надев металлический предмет или специальное защитное приспособление.
Таковы источники этой версии, которая за последнее время получила значительное распространение в писаниях некоторых литераторов, как установленный факт (хотя в "Неве" заметка Сафронова была напечатана в отделе "Трибуна читателя", то есть в дискуссионном порядке), в популярных книгах, в лекция, даже в школах, причем "защитное приспособление" превратилось уже не только в "панцирь", "пуленепроницаемый жилет", кирасу, но даже в кольчугу". Вместе с тем эта версия, как бездоказательная, вызывала и возражения пушкинистов и криминалистов*. Ее отвергли на Всесоюзных пушкинских конференциях (а на XVI Всесоюзной пушкинской конференции в резолюции была даже отмечена необходимость критики всякого рода бездоказательных гипотез и их распространение, приобретающего сенсационный характер). При этом указывалось, что такого рода гипотезы, не основанные на достоверных материалах, даже вредны, так как подменяют глубокую политическую трактовку гибели Пушкина, принятую советской наукой, детективно-сенсационной, отвлекая внимание от коренных вопросов пушкинской биографии.
* ("Москва", 1959, стр. 172, 173-174.)
Но раз гипотеза получила распространение, возникла необходимость ее проверки. Для этого компетентности пушкинистов недостаточно. Ведь здесь прежде всего решает сторона техническая, связанная с исследованием технических обстоятельств дуэли, требующих экспертизы специалистов по истории оружия. Эти специалисты и могут сказать действительно авторитетное слово. Если версия с панцирем не подтвердится, вина Дантеса, убийцы Пушкина, конечно, нисколько не уменьшится. Речь отнюдь не идет при этом и о пересмотре морального облика Дантеса: в любом случае подлость его была и остается вне сомнений. Речь идет лишь о непременном в любой науке требовании доказательств. Поэтому, прежде чем пропагандировать так широко версию в печати, следовало бы ее научно обосновать.
По словам Рахилло, незнакомец в Малеевском доме творчества писателей утверждал, что видел в Архангельске в какой-то казенной книге запись о прибытии туда посланца Геккерна. Отсюда заключение: Геккерн послал в Архангельск человека для того, чтобы купить панцирь. Мною был послан запрос в Архангельский архив с просьбой поискать какие-либо сведения о пребывании этого человека, но получил официальный ответ, что данных по этому поводу не найдено.
Далее: после того как появилась заметка В. Сафронова в "Неве" и газетное сообщение на ту же тему, 8 октября 1963 года, в Ленинградском ордена Ленина Институте усовершенствования врачей имени С. М. Кирова состоялась научная конференция кафедры судебной медицины. 24 октября 1963 года итоги этой конференции были подведены в следующем решении:
"Анализируя сообщение судебно-медицинского эксперта Ленинградского областного Бюро судебно-медицинской экспертизы В. А. Сафронова и выступления в прениях, следует сделать выводы:
После опубликования в журнале "Нева" (№ 2, 1963) статьи В. А. Сафронова "Поединок или убийство" в газетах и журналах появились сообщения о том, что ленинградскими судебными медиками установлены новые обстоятельства дуэли между А. С. Пушкиным и Дантесом, а именно, что на Дантесе во время дуэли были какие-то защитные приспособления*. Желая ознакомиться с экспертными данными работы В. А. Сафронова, кафедра попросила его выступить с соответствующим сообщением на конференции, куда, как обычно, были приглашены представители всех судебно-экспертных учреждений Ленинграда, а также ученые-пушкиноведы.
* (См. сводку данных в обзоре Я. Л. Левкович. "Новые материалы для биографии Пушкина". - В кн.: "Пушкин. Исследования и материалы", т. V, изд. "Наука", стр. 380-381.)
Заседание кафедры констатирует, что доклад В. А. Сафронова не носил характера научного сообщения специалиста - судебного медика. В большей части это было изложение известных биографических данных великого поэта, его трагической гибели, гнусной роли в его смерти проходимца Дантеса. К сожалению, В. А. Сафронов почти ничего не сообщил о своих экспертных исследованиях.
Основное положение, которое высказал В. А. Сафронов, заключалось в том, что пуля, выпущенная из пистолета А. С. Пушкина, не могла рикошетировать от пуговицы мундира Дантеса ввиду несоответствия расположения пуговицы месту попадания пули; равным образом пуля не могла рикошетировать и от пуговицы на подтяжках брюк. В связи с этим делался вывод, что на пути пули оказалась какая-то преграда, какое-то защитное приспособление, от которого и рикошетировала пуля.
Категорически утверждать о невозможности рикошетирования пули от металлической пуговицы не представляется возможным.
Для того чтобы решить достоверно вопрос о случившемся, эксперту необходимы были исследования одежды, подобной той, в которой находился Дантес, а также исследование оружия, подобного тому, из которого был произведен выстрел такими же боеприпасами.
Таким образом, резюмируя все сказанное, следует полагать, что каких-либо новых экспертных данных, новых фактов, которые позволили бы перейти к научным доказательствам (криминалистических, судебно-медицинских и т. д.) В. А. Сафронов в своем сообщении не привел".
Таковы выводы конференции специалистов.
На эту же тему поступил ряд писем в Пушкинскую комиссию Академии наук СССР. Так, доктор юридических наук, профессор Я. Давидович, кандидат исторических наук доцент Л. Раков, сотрудник Эрмитажа, специалист по изучению быта пушкинской эпохи и писатель В. Глинка писали: "...мы не хотим ни в чем смягчать несмываемой вины темного авантюриста Дантеса. Этого безнравственного проходимца навсегда приговорил стих Лермонтова:
Смеясь, он дерзко презирал Земли чужой язык и нравы; Не мог щадить он нашей славы...
В России Дантес был бездельником на службе, пустым хлыщом в петербургском "свете", холодным бездумным орудием заговора царя и придворной клики против величайшего поэта, как позже, у себя на родине, он стал бесстыдным торговцем политическими убеждениями и циничным участником финансовых спекуляций правящей плутократии империи Наполеона III".
Но, рассматривая гипотезу Сафронова, авторы письма пишут: "Выводы автора основываются не на использовании каких-либо новых фактов и не на установлении новых данных в результате глубокого анализа известного материала, а лишь на априорных предположениях, которые не подтверждаются никакими доказательствами. Подбор подобных "умозаключений" и подводит к выводу, который должен был бы рассматриваться также в виде предположения, но преподносится как факт. В настоящее время в нашей печати уже появился ряд заметок, в которых гипотеза Сафронова предлагается читателям в качестве сенсационного открытия. Быть может, эти легковесные конструкции и способны впечатлить неопытного читателя, к тому же исполненного понятой, неизбывной ненависти к убийце великого поэта, но серьезной критики они не выдерживают". В частности, рассматривая вопрос об одежде, в которую был одет Дантес, авторы опровергают утверждения В. Сафронова: "...элементарное знакомство с историей русского военного костюма убеждает в том, что никогда никаких офицерских однобортных сюртуков с пуговицами, расположенными в один ряд по средней линии груди, не существовало. Более чем странным является и утверждение автора, что кроме кавалергардов никто сюртука не имел, в то время как с начала XIX века и вплоть до войны 1914 года их носили почти все офицеры русской гвардии и армии.
Указанная неточность уничтожает всю концепцию Сафронова, согласно которой "линия пуговиц далеко отстояла от места удара пули в грудь Дантеса". В действительности же пуговицы на двубортном сюртуке находились именно на боковых линиях груди, почему не случайно современники дуэли соглашались с существовавшей версией, объяснявшей попаданием пули в пуговицу легкость ранения и контузию Дантеса".
Поступило в пушкинскую комиссию и письмо А. Ваксберга, автора книги "Преступник будет найден" (1963), в которой по поводу статей М. Комара и В. Сафронова было замечено, что "загадка пушкинской гибели окончательно перестала существовать (стр. 98). Но вскоре после выхода своей книги А. Ваксберг, ознакомившись с возражениями ленинградских специалистов, упомянутых выше, написал в Пушкинскую комиссию АН СССР письмо о том, что эта его фраза "является весьма неудачной" и что необходимо обсуждение вопроса "компетентной комиссией". Наконец, следует упомянуть и о подробном письме в эту же комиссию Н. Раевского. Его соображения заслуживают внимания; он и пушкинист (ему принадлежит книга "Когда заговорят портреты"), и биолог (работает в одном из медицинских учреждений), и получил в свое время образование артиллериста. Раевский суммируя данные авторов упомянутой гипотезы, в основном согласен с приведенными возражениями специалистов (которые ранее не были ему известны) и приводит некоторые интересные дополнительные соображения. В частности, по поводу возможности применения "кольчуги" он пишет: "Обычно она имела вид доходящей до колен рубашки из железных проволочных колец. Хорошо защищая тело от ударов холодным оружием, кольчуга оказалась бессильной против огнестрельного и, с усовершенствованием его, постепенно вышла из употребления. Кольчуги вовсе перестали изготовляться с конца XVII века ("Большая советская энциклопедия", т. 22, стр. 102). Надев подобную музейную вещь, Дантес рисковал бы, вместе с пулей Пушкина, подвергнуться ранению осколками разбитых колец. В 1837 году кольчуга - не меньший анахронизм, чем алебарда или пищаль". По поводу же "пуленепроницаемых жилетов" Раевский замечает, что в России такие жилеты не были известны даже в первую мировую войну: "Различные изобретатели пытались, правда, навязать их военному ведомству (то же самое имело место и в японскую войну), но испытания неизменно заканчивались провалом. Достаточно легкого и в то же время очень прочного материала для их изготовления, видимо, еще не существовало"...
По поводу же утверждения В. Сафронова о том, что пистолеты противников были разного калибра и убойной силы, Раевский считает необходимым произвести экспертизу специалистов по истории оружия.
В заметке Сафронова и в письмах затрагиваются и такие детали, как форма и размер пуговицы, от которой рикошетировала пуля. Все это может показаться читателю неспециалисту ненужными мелочами, но поскольку речь идет о судебно-медицинской экспертизе, такие детали приобретают иногда решающее значение. Поэтому и авторы некоторых писем рассматривают их со всей серьезностью (и не в пользу выдвинутой гипотезы).
После моих выступлений на эту тему по радио и в печати я получил ряд писем, среди которых особенно интересным и убедительным представляется обширное письмо сотрудника отдела оружия Государственного исторического музея Н. Н, Николаева. Автор - специалист в этой области и основывает свои выводы на многих опытах проникновения и отражения круглых пуль от разного рода предметов при стрельбе черным порохом, то есть в условиях, важных именно при освещении вопроса о дуэли Пушкина и Дантеса.
Н. Н. Николаев отмечает, что Пушкин был отличным стрелком. Смертельно раненный, он, лежа, страшным усилием воли преодолевая мучительную боль, навел пистолет на фигуру врага и произвел "отличный выстрел"... "пуля лишь слегка отклонилась от средней линии фигуры Дантеса, причем как раз на уровне сердца. Какие-нибудь пять сантиметров левее и Дантеса бы не было". Спасение Дантеса Николаев объясняет следующим образом. В ожидании ответного выстрела Дантес, выгодно используя дуэльный кодекс, принял позу наименее опасную - стал боком к стреляющему и прикрыл голову пистолетом*. При этом рука была согнута в локте. Реконструируя эту ситуацию, Николаев заключает: можно считать, что пуля ударила в грудь Дантеса "под очень малым (порядка 10-15°) углом к касательной груди в точке удара", и что именно это оказалось самым существенным для судьбы Дантеса: получилась "почти касательная к правой стороне груди". Приводя соответствующие расчеты с учетом всех обстоятельств выстрела и препятствий, которые ослабили его эффект, и цитируя труды специалистов по оружию, Николаев пишет: "Пуля из пистолета Пушкина, пробивая руку Дантеса, имела все шансы отразиться в сторону от груди последнего, даже не встретив пресловутой пуговицы его мундира". Пуля, ослабленная прободением руки, рикошетировала. Такова точка зрения специалиста.
* (Эти сообщения неверны, что отмечено в "Временнике Пушкинской комиссии". Л., изд. АН СССР, 1963, стр. 66. Никаких сведений о "судебных медиках" нет (выступал только В. А. Сафронов).)
Что же касается "кольчуги", то она "предназначалась главным образом для защиты от рубящего оружия и пробивалась в средние века даже специальным копьем с длинным наконечником типа стилета. Уместно ли тогда говорить о ее защитной надежности против огнестрельного оружия!" Продолжая свои рассуждения, Николаев говорит, что защитное приспособление Дантес мог использовать только при условии, если он был бы простаком и профаном в оружейном деле (не говоря уж о трудности надеть плотно пригнанный к фигуре мундир поверх тяжелой, неуклюжей, металлической кольчуги). А если допустить, что Дантес воспользовался бы защитным приспособлением, то и сам удар принес бы физические телесные повреждения, которые были бы обнаружены при медицинском освидетельствовании. Кроме того, "скандал получился бы грандиознейший, грозивший Дантесу гораздо более надежной смертью от руки возмущенных русских патриотов, мстителей за своего национального поэта".
Так обстоит дело с пресловутой гипотезой о "панцире". Можно заключить, что Дантес не использовал защитное приспособление в силу прежде всего нереальности этого предприятия по всей совокупности перечисленных причин. Этот вывод Н. Н. Николаева представляется убедительным, Будущее покажет, найдутся ли более доказательные аргументы как у противников, так и у сторонников версии о "панцире"...
Среди других вопросов, которые часто задают читатели, есть и такой: правильно ли лечили Пушкина?
Конечно, не пушкинистам решать этот вопрос, и я могу лишь изложить точки зрения специалистов-хирургов.
Существуют две точки зрения. Одни врачи утверждают, что и в пределах возможности того времени Пушкина лечили неправильно. Встречаются утверждения, что личный врач Николая I, лейб-медик Арендт, вольно или невольно действовал как царедворец. Версию о неправильном лечении Пушкина поддерживал ряд деятелей медицины. Еще в конце XIX века появилась работа врача-патолога С. М. Лукьянова с анализом хода лечения. Лукьянов признал, что оно далеко не безупречно: кровотечение не было остановлено, отказались от перевязки кровоточащих сосудов, раненому объявляли о неминуемой смерти и т. д. Меры же, которые были приняты врачами, Лукьянов определил как "бесполезные для раненого"*. В наше время близкие версии развивает ряд деятелей медицины. Л. П. Гроссман, обобщая такие мнения, писал: "Через столетие русская медицина осудила своих старинных представителей, собравшихся у смертного одра поэта"**.
* (Н. Н. Николаев при этом вспоминает эпизод из "Войны и мира" Толстого, когда Денисов крикнул Пьеру Безухову, ожидавшему ответного выстрела: "Станьте боком, закройтесь пистолетом".)
** (С. М. Лукьянов. О последних днях жизни и смерти А. С. Пушкина с медицинской точки зрения. "Известия отделения русского языка и словесности Академии наук", 1899, т. IV, стр. 993.)
Но есть и противоположная точка зрения. Ее, в частности, отстаивал А. Гудимов в газете "Медицинский работник" (1961, 10 января) в статье "Рана Пушкина".
Из статьи Гудимова следует, что и поведение врачей и лечение было безупречным. При этом он ссылается на доклад, сделанный в 1937 году выдающимся русским хирургом Н. Н. Бурденко. О докладе этом (он не опубликован) известно лишь по отчету в газете "Известия" (1937, 5 февраля). В отчете приведены слова Бурденко об Арендте: "Он начал лечить его по всем правилам тогдашней науки". В этом же отчете, однако, сказано: "Рана была сама по себе тяжелая, но не смертельная, дело было за хирургами". Указывая, что врачи "в большей части были под влиянием отсталой немецкой школы", Бурденко далее говорил: "Хирурги, собравшиеся у постели мучительно страдавшего Пушкина, нерешительно, зондами прощупывали рану, этим только увеличивая мучения поэта. На хирургическое вмешательство Арендт не мог решиться".
Может быть, отчет не точен и эти слова были сказаны в другой связи, - не знаю. А. Гудимов об этом отчете не упоминал совсем. Но говоря о докладе Бурденко, он писал: "Были изучены все документы, привлечен ряд специалистов, в том числе и таких, как профессор С. С. Юдин". Опять-таки Гудимов не упоминал о том, что заключение одного из самых выдающихся хирургов нашего времени С. С. Юдина было опубликовано в форме большой статьи в газете "Правда" (1937, 8 февраля). Юдин, насколько это позволяют документы и материалы, восстановил историю болезни и лечения Пушкина, иногда по часам. Юдин считает, что "в те годы об операции не приходилось и думать", так как необходимая для этого антисептика появилась много позже. Но Юдин утверждает, что с точки зрения медицины того времени Аренд- том как руководящим лечащим врачом были допущены грубые ошибки. Не будем перечислять всего, что пишет Юдин на эту тему (например, Юдин считает, что определенной ошибкой было применение причинившей Пушкину нечеловеческие страдания промывательной процедуры, вызвавшей "преждевременную перистальтику в момент, когда вся ставка была на покой, слипание кишок и локализацию воспаления"). Но вот что кажется резонным и не специалисту: "Врачи поступили безусловно неправильно, сказав самому Пушкину правду о смертельности ранения... Необходимая "святая ложь" настолько часто фигурирует в работе каждого врача, что ни для Шольца, ни тем более для Арендта и Спасского этот тактический прием не мог быть новинкой". Здесь вопрос не только врачебной этики: известно, какое влияние на больного оказывает приговор врачей, а его сообщили Пушкину сразу же. Нужно добавить, что версия о том, что Пушкин хотел смерти, неверна. Врачи с самого начала твердили, что он умрет, но когда Даль стал обнадеживать его, поэт с благодарностью откликнулся на эту моральную поддержку.
Вернемся, однако, к заключению Юдина. Он далее пишет: "Удивляет отсутствие сердечных назначений". И, наконец, он говорит о роли Арендта в инсценировке примирения Пушкина с царем.
Из анализа истории болезни Пушкина, сделанного Юдиным, можно заключить, что лечение Пушкина далеко не стояло "на уровне самого передового для 30-х годов прошлого столетия опыта", как об этом говорит Гудимов в газете "Медицинский работник"*. Ясно также, что вопрос нельзя считать решенным и что читатели, которые и сегодня встречаются с абсолютно противоположными ответами на него, остаются в недоумении. Когда они обращаются к пушкинистам за разъяснениями, удовлетворительного ответа не получают. Разумеется, литературоведы не могут взять на себя решение специального вопроса. Но, с другой стороны, и всякое медицинское заключение, не учитывающее совокупности обстоятельств, сложившихся в последние дни Пушкина, оказывается большей частью односторонним.
* (Леонид Гроссман. Пушкин (серия "Жизнь замечательных людей"). М., изд-во "Молодая гвардия", 1958, стр. 496.)
Предвзятости в освещении истории гибели Пушкина не должно быть. Это относится и к вопросу о его лечении. Если говорить, например, о роли Арендта, то ведь в принципе может быть не исключенным, к примеру, такой вывод: "Несмотря на то, что лейбмедик Арендт был лично приближенным к царю и казался замешанным в инсценировку примирения умирающего Пушкина с царем; несмотря на то, что Николай I был несомненно заинтересован в скорейшей смерти раненого Пушкина, лечение его в то время было правильным, а также отвечало требованиям врачебной этики..." Но возможно, что будет признано и другое, - серьезные отступления от этой этики, сознательно или бессознательно допущенные под воздействием хитроумно-иезуитской тактики коварнейшего из российских самодержцев. Ведь заслуживает внимания факт, сам по себе странный. Кроме Арендта, авторитет которого был высок и благодаря заслуженной репутации и должности лейб-медика, у постели Пушкина побывали такие крупнейшие хирурги, как Х. Х. Саломон и И. В. Буяльский, - их мастерство, их опыт сложнейших операций вызывали восхищение; почему же о них ничего почти не упоминалось в свидетельствах друзей поэта, секундантов, врачей и Арендт (о котором, кстати говоря, Н. Н. Пирогов отзывался довольно критически) взял на себя всю полноту руководства лечением Пушкина, а остальные коллеги оказались отстраненными? Было ли это сделано под давлением царя, которого Арендт постоянно информировал о состоянии Пушкина и ездил из дворца на его квартиру, туда и обратно? Почему не было после смерти Пушкина полного, тщательного анатомического заключения о причинах смерти? (Это заметил даже генерал Бистром как упущение в следственном документе.) Вопросы могут быть умножены. Во всяком случае, в суде истории не место беспочвенным загадкам и субъективным побуждениям спорящих сторон. Решить может комплексная научная экспертиза, основанная на анализе фактов и с участием представителей различных специальностей, способных сказать веское слово.
Одной из новейших работ, посвященных ранению Пушкина, является особая глава на эту тему в книге Ш. И. Удермана "Избранные очерки отечественной хирургии" (изд-во "Медицина", М., 1970). Не берусь, разумеется, судить о чисто медицинской стороне рассуждений автора. Но если ретроспективный анализ хода болезни и лечения - дело специалистов-врачей, а не гуманитаров, то и врачи не могут при изучении этого вопроса не принимать во внимание всех обстоятельств общественной среды, быта, которые глубочайшим образом влияли на течение болезни и общее состояние Пушкина. Из такого понимания задач исследования исходит, например, профессор Л. С. Журавский (заведующий кафедрой госпитальной хирургии Калининского медицинского института), в своем анализе ранения и лечения Пушкина, представленном в 1972 году в Пушкинский дом Академии наук СССР, С этой точки зрения категорическое утверждение Ш. И. Удермана, что врачи поступали правильно, сообщая Пушкину, что его смерть неминуема и что это не было отступлением от принципов гуманности, удивляет (не говоря уже о том, что подобные сообщения вызывают, как это отмечает Л. С. Журавский, "отрицательные сосудистые и гормональные сдвиги"). Наконец, кто бы ни писал об истории гибели Пушкина, нужно придерживаться фактов и не утверждать, как это делает Ш. И. Удерман, что дуэль происходила на кремневых пистолетах (в то время как стрелялись на современных капсульных пистолетах Лепажа), или что раненый Пушкин будто бы стрелял в Дантеса сидя (в то время как выстрел был произведен Пушкиным полулежа).
6
Непрестанно возрастает за рубежом интерес к творчеству Пушкина как гениального писателя, который внес крупнейший вклад в развитие русской и мировой культуры. Но вместе с тем в буржуазной критике продолжают бытовать самые нелепые представления о его личности. Особое внимание привлекает в этой критике последний период биографии поэта. История гибели Пушкина нередко толкуется как результат роковой ситуации пресловутого "треугольника". Но, что особенно возмутительно, встречаются и попытки оправдать Дантеса. Своего рода сенсацию вызвала появившаяся во французском журнале "Historia" (1964, том 36, № 216) статья Клода Дантеса - потомка Жоржа Дантеса - под интригующим заголовком "Кто убил Пушкина?" На нее до сих пор встречаются ссылки в некоторых зарубежных изданиях.
Автор статьи хочет доказать, что его предок - Жорж Дантес является в истории гибели Пушкина не виновником, а... жертвой. Не впервые предпринимаются попытки обелить убийцу великого русского поэта, представить Дантеса человеком, который действовал не по своей воле, а, так сказать, в силу "хода вещей". В то время как все честные люди заклеймили Дантеса, в светском обществе находились и враги поэта, которые сочувствовали убийце, и люди, введенные в заблуждение блестящим кавалергардом, сочетавшим хитрость и лукавство с умением расположить к себе остроумием, светским обхождением и способностью обольщать женщин. Однако попытки оправдать Дантеса всегда вызывали лишь негодование всякого порядочного человека, знакомого с историческими фактами.
Об этой статье всерьез можно было бы не говорить, если бы не одно обстоятельство. Редакция журнала "Historia" в своем примечании заявляет, как это ни странно, что статья Дантеса якобы восстанавливает историю смерти Пушкина и предшествующие ей события на основе неизданных документов, хранящихся в семейном архиве Дантесов-Геккеренов. Но на самом деле ни одного документа, который меняет установившееся в нашей науке мнение о Дантесе, в статье не приведено. Вся она построена на домыслах и попытках обрисовать сентиментально окрашенный образ Жоржа Дантеса как человека "чистой" любви и якобы совершенно безупречного.
Каков же ход рассуждения Клода Дантеса?
Он задает риторический вопрос: разве прибавится хоть атом славы к имени Пушкина, если его врагов рисовать в дурном свете и превращать искреннюю любовь Дантеса к Наталье Николаевне в гнусный заговор? Из статьи следует, что Дантес в истории гибели Пушкина был лишь страдающей стороной, что он протягивал Пушкину "братскую руку примирения", но тот ее отверг. Особенно отвратительна фальшиво-сентиментальная сцена, которую создает в своем воображении Клод Дантес, представляя себе переживания Жоржа Дантеса во время поединка. Оказывается, "несчастный" убийца Пушкина в эти минуты вспоминал свое детство, родной дом в Эльзасе, свой приезд в Россию, "изумительную дружбу" с Геккерном ("дружбу", о постыдных мотивах которой говорили современники), женщин, которых он любил... Клод Дантес печалится: "Русские и французские биографы не пощадили человека, который убил Пушкина!" Действительно, в характеристиках облика Жоржа Дантеса, как и признает Клод Дантес, слово "негодяй" не является самым мягким. Но, по словам автора статьи, "Жорж Дантес не был ничем подобным. Он не подлежит упрекам..." "Низость? - нисколько". Клод Дантес готов признать лиризм стихотворения Лермонтова "Смерть поэта", но никак не согласен с пылкой и справедливой оценкой, которая дана в нем чуждому России пришельцу.
Но каковы же документы из семейного архива Дантесов-Геккеренов, о которых глухо говорится в этой статье? Ряд этих документов был опубликован в свое время в книге "Дуэль и смерть Пушкина" П. Е. Щеголевым, затем французским исследователем Анри Труайя. Они нисколько не меняют картины гибели Пушкина и совершенно доказанной версии о виновности Жоржа Дантеса. Так, в статье приведено письмо Жоржа Дантеса, в котором тот жалуется на судьбу и, между прочим, пишет о Наталье Николаевне: "Конечно, она мне не принадлежала, но никто, даже ее ревнивый муж, не отнимет у меня эту прекрасную любовь, никто не отнимет у нас наши пламенные взгляды, которыми мы обменялись между двумя контрдансами". Но неужели эти излияния могут что-либо изменить в характеристике облика Дантеса и его поведения?
Клод Дантес хочет свести весь вопрос лишь к романической истории. Но исследования исторических фактов убеждают, что история гибели Пушкина - это прежде всего история политическая. Сети заговора плелись вокруг Пушкина в течение ряда лет. Жорж Дантес оказался исполнителем в гнусном заговоре.
Слащаво идеализирован в статье самый облик убийцы Пушкина. Автор хочет создать представление, что по характеру Жорж Дантес... был романтически чистым человеком. Однако факты его биографии говорят о другом. Известно, что в июле 1830 года во Франции он сражался в рядах сторонников Карла X, а затем отправился в Россию, где его, убежденного монархиста, ожидала блестящая карьера. Благодаря протекциям, его, в обход всех правил, приняли корнетом в кавалергардский полк. Дантес был представлен офицерам самим Николаем I. Он стал приемным сыном Геккерна, мерзкий облик которого засвидетельствован многими современниками. Хотя служба Дантеса в полку сопровождалась бесчисленными взысканиями, это не мешало его карьере. Помогали высочайшие связи. После дуэли с Пушкиным, будучи выслан из России, он принял деятельное участие в политической жизни Франции, по-прежнему обнаруживая самые реакционные монархические убеждения. Он был в числе правых депутатов, которые в 1851 году боролись за изменение конституции с целью облегчить Луи Наполеону путь к государственному перевороту. В числе других Дантес был заклеймен Виктором Гюго в применении к его стихотворению "Написано 17 июля 1851 года".
Наполеон III после переворта, в награду за услуги, оказанные Дантесом, назначил его сенатором. В дальнейшем Дантес, вновь и вновь обнаруживая свою изворотливость и хитрость, выполнял различные поручения Наполеона III. Его хватка проявилась также и на поприще капиталистического предпринимательства. Он участвовал в учреждении кредитных банков, железнодорожных кампаний, всякого рода промышленных обществ и нажил большое состояние. Как мы видим, все это далеко от того мнимопсихологического портрета, который нарисовал Клод Дантес.
В статье, о которой идет речь, повествуется также о женитьбе Дантеса на сестре Натальи Николаевны Екатерине. Но хорошо известно, что осведомленные люди рассматривали этот брак как стремление Дантеса погасить первый вызов на дуэль, сделанный Пушкиным, и вместе с тем обеспечить себе возможность видеться с Натальей Николаевной уже на правах родственника, а на самом деле продолжать свои домогательства. Сестра Пушкина Ольга Сергеевна писала отцу об этом браке, что здесь "должно быть что-то подозрительное, какое-то недоразумение, и что, может быть, было бы очень хорошо, если бы этот брак не имел места"*. Один из современников, Н. М. Смирнов, так описывал ситуацию; "Поведение Дантеса после свадьбы дало всем право думать, что он точно искал в браке не только возможности приблизиться к Пушкиной, но также предохранить себя от гнева ее мужа узами родства. Он не переставал волочиться за своею невесткой; он откинул даже всякую осторожность, и казалось иногда, что насмехается над ревностью непримирившегося с ним мужа. На балах он танцевал и любезничал с Натальею Николаевной, за ужином пил за ее здоровье, словом, довел до того, что все снова стали говорить про его любовь. Барон же Геккерн Стал явно помогать ему, как говорят, желая отомстить Пушкину за неприятный ему брак Дантеса"**.
* (Через несколько лет после напечатания своей статьи в "Медицинском работнике", в "Журналисте" (1967, № 9) А. Гудимов сообщил, что в написанном им же в 1937 году отчете для "Известий" мнение Н. Бурденко изложено неверно, в противоположном смысле. Однако и при этом разъяснении остается непонятным, почему Гудимов отвергает точку зрения С. Юдина, изложенную им в "Правде". Ссылка Гудимова на то, что Юдин тогда не имел достаточного хирургического опыта, вряд ли может убедить, тем более что и теперь ряд видных хирургов признает ошибки в лечении Пушкина.)
** ("Пушкин и его современники", вып. XII, стр. 94.)
Мы знаем, что Пушкин не пришел на свадьбу Дантеса с Екатериной, и заявил, что между домом Пушкина и домом Дантеса ничего общего быть не может.
Общеизвестны свидетельства гнусного поведения Дантеса. Напомню лишь о материалах, появившихся сравнительно недавно. В письме одного из членов семьи Карамзиных, тесно связанных с Пушкиным и хорошо знавших Дантеса, Александра Карамзина, из Петербурга 13 марта 1837 года мы читаем, что Дантес был "совершенным ничтожеством как в нравственном, так и в умственном отношении". Геккерн, приемный отец Дантеса, назван "утонченнейшим развратником, какие только бывали под солнцем..." "Эти два человека, не знаю, с какими дьявольскими намерениями, стали преследовать госпожу Пушкину с таким упорством и настойчивостью, что, пользуясь недалекостью ума этой женщины и ужасной глупостью ее сестры Екатерины, в один год достигли того, что почти свели ее с ума и повредили ее репутации во всеобщем мнении. Дантес в то время был болен грудью и худел на глазах. Старик Геккерн сказал госпоже Пушкиной, что он умирает из-за нее, заклинал ее спасти его сына, потом стал грозить местью; два дня спустя появились анонимные письма". Карамзин признается, что только после смерти Пушкина он "узнал правду о поведении Дантеса". И далее он наказывает брату, что он должен пересмотреть мнение о Дантесе, который раньше бывал в их семье: "...ты не должен подавать руку убийце Пушкина"*.
* ("Русский архив", 1882, т. 1, стр. 236.)
Характерно и поведение Дантеса после поединка. Андрей Карамзин писал в июле 1837 года: "Странно мне было смотреть на Дантеса, как он с кавалергардскими ухватками предводительствовал мазуркой и котильоном, как в дни былые". С. Н. Карамзина ответила: "То, что рассказываешь нам о Дантесе (как он дирижировал мазуркой, котильоном), заставило нас содрогнуться и всех в один голос сказать: "Бедный, бедный Пушкин!"* По другим свидетельствам Дантес впоследствии не раз говорил, что ему не в чем себя упрекать и что только вынужденному из-за дуэли отъезду из России он обязан своей блестящей политической карьерой. Любопытно, что впоследствии он начал против Гончаровых судебный процесс, стремясь взыскать с них крупную сумму в качестве якобы недоплаченного приданого!
* ("Пушкин в письмах Карамзиных 1836-1837 годов". М.-Л., изд-во АН СССР, 1960, стр. 190-193.)
...Конечно, чувствовать себя принадлежащим к роду Дантесов, человека, убившего Пушкина на дуэли, - ощущение мало приятное: видимо, отсюда попытки Клода Дантеса оправдать своего далекого предка*. Казалось бы, продолжателям рода можно или молчать, или осуждать предка, уже осужденного историей. Есть и заранее обреченный на неудачу путь: пытаться выдать черное за белое. На этот путь и встал Клод Дантес и немногочисленные его сторонники на Западе. Однако убийцу Пушкина не обелить - этому не помогут никакие ухищрения фальсификаторов истории.
* (Там же, стр. 224, 404-405.)
7
Исследование обстоятельств гибели Пушкина, поведения современников, так или иначе прикосновенных к этой драме, или ее свидетелей продолжается. Неустанные поиски ученых дают плодотворные результаты. Долгое время не удавалось сделать достоянием гласности ряд документов иностранных архивов. В последние годы и эти документы постепенно обнаруживаются. Опубликовано неизвестное письмо Николая I о дуэли и смерти Пушкина сестре Марии Павловне, великой герцогине Саксен-Веймарской, от 4-го февраля 1837 года (адресовано в Германию). Здесь царем изложена (с ориентацией на распространение за рубежом) официальная версия события: Николай утверждает, что этому событию не следует придавать слишком большого значения; Дантес фактически оправдывается (его "вина была в том, что он, в числе многих других, находил жену Пушкина прекрасной"); Пушкин (он назван здесь "пресловутым") "оскорбил своего противника столь недостойным образом, что никакой иной исход дела был невозможен"; именно эта версия распространялась тогда и в дальнейшем правительством*.
* (Возможно, что толчком к появлению этой статьи явилась напечатанная во французском же журнале "Красная лента" в декабре 1963 г., № 19, статья Флерио де Лангль "Дело Дантеса - Пушкина", где дана резкая характеристика Жоржа Дантеса и его "лукавого и отталкивающего поведения в течение недель, предшествующих драме 27 января 1837 г.".)
Изучение истории гибели Пушкина обогатилась и другими ценными документами. В одном из наших архивов, в рукописном собрании Зимнего дворца, обнаружена переписка Николая I с супругом своей сестры Анной Павловны - принцем Вильгельмом Оранским. Из этой переписки следует, что приемный отец Дантеса - Геккерн вызывал недовольство Николая и принца Оранского разглашением каких-то обстоятельств семейной жизни королевской четы. Отсюда следует, что мотивы отозвания Геккерна из Петербурга не однозначны. Здесь вплетается еще одно звено событий, и гибель Пушкина, возможно, не была самым главным аргументом необходимости удаления голландского посланника из Петербурга*.
* (См. "Временник Пушкинской комиссии", АН СССР, М.-Л., 1963, стр. 39 (публикация Е. В. Музы и Д. В. Сеземан).)
Несколько дополнились наши знания о Наталии Николаевне, ее жизни и облике в 1833-1836 годах, дополнились ее неизвестными ранее шестью письмами к брату, Дмитрию Николаевичу Гончарову*.
* (Опубликованы в газете "Пушкинский праздник" 2-9 июня 1971 г. (публикация И. Ободовской и М. Дементьева).)
Фактических материалов о биографии Натальи Николаевны, и тем более о последних годах ее жизни с Пушкиным, очень мало. Письма ее к Пушкину неизвестны, не разысканы. Мнения современников о ее характере, уме, духовном развитии противоречивы. Поэтому понятен интерес к найденным письмам. Они содержат новые штрихи к портрету Наталии Николаевны, помогают вернее понять ее психологию в 1833-1836 годы. До сих пор не только читателями, но и литературоведами облик Наталии Николаевны воспринимался чаще всего вне эволюции ее характера, интересов, чувств. Ее помнят такой, какой Пушкин впервые увидел ее на балу, когда Натали впервые вывезли в свет и когда он страстно и безотчетно влюбился, испытывая (как он писал в 1829 году ее матери) "нетерпение сердца, больного и пьяного от счастья". Девушке было тогда 16 лет. Ее жизнь ограничивалась жесткими пределами суровой семьи, где она выросла. Ее характер калечила мать - самодурка и ханжа, старавшаяся внушить своим дочерям пошлейшие понятия о жизненных целях; не содействовал воспитанию и полоумный отец, который во время припадков буйства гонялся за своей женой с ножом. Можно лишь удивляться тому, что Натали в этой обстановке сумела сохранить душевную свежесть, естественность. После долгих проволочек, созданных будущей тещей, Пушкин женился. Как это видно из писем к друзьям, он не строил себе иллюзий. Он ясно отдавал себе отчет в ситуации и откровенно писал матери невесты (в апреле 1830 года): "Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение Вашей дочери: я могу надеяться возбудить со временем ее привязанность, но ничем не могу ей понравиться; если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца". Привязанность возникла. Если не было любви, то не было и "спокойного равнодушия". Время изменило характер молодой женщины. И в письмах к Д. Н. Гончарову она перед нами предстает заботливой, вникающей в дела мужа. Как раз в том же 1833 году, к которому относится первое из ее опубликованных писем к брату, Пушкин писал ей: "...с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете - а душу твою люблю я еще более твоего лица" (письмо от 21 августа 1833 г.).
Для более точного восприятия писем Натальи Николаевны нужно представить себе фон жизни ее и Пушкина, и особенно 1836 год, когда ухаживания Дантеса за женой поэта были весьма энергичными и когда эти ухаживания стали предметом оскорбительных сплетен. Наталья Николаевна была увлечена Дантесом, но близкие и знакомые уверяют, что она осталась верной своему мужу. Об этом уже накануне смерти говорил, судя по свидетельствам друзей, и сам Пушкин. Увлечение Натальи Николаевны Дантесом было поистине драматическим. Драматической была и вся жизнь, окружавшая семью Пушкиных. Обстановка разнообразных тревог, отсутствие моральной и материальной независимости - обо всем этом мы знаем из писем Пушкина, из его дневника, а теперь также из ее писем к брату. Нельзя недооценивать значение таких строк: "Мой муж дал мне столько доказательств своей деликатности...", "...я вижу, как он печален, подавлен, не спит по ночам и, следовательно, в подобном состоянии не может работать, чтобы обеспечить нам средства к существованию: для того, чтобы он мог сочинять, голова его должна быть свободна".
По-прежнему остается открытым вопрос о том, насколько Наталью Николаевну занимали творческие замыслы Пушкина, насколько он посвящал ее в ход своей работы и вообще насколько серьезно она интересовалась поэзией, литературой. Настораживает тот факт, что в письмах к ней он не рассказывает ни об этих замыслах, ни о своем творчестве. Из ее писем к брату, опубликованных теперь (как и других, напечатанных в 1964 году в "Звезде" № 8 М. Яшиным), следует, что она помогала Пушкину со стороны чисто деловой. Раньше считалось, что Наталья Николаевна была погружена лишь в светские заботы. Между тем она была серьезно озабочена материальным положением семьи, о чем говорит ее признание брату о крайне стесненном положении (например, из ее письма 27 сентября 1833 года, написанного в отсутствие Пушкина, мы узнаем, что она осталась бы с маленькими детьми "без копейки", если бы не заняла несколько сот рублей). Выполняя поручения Пушкина, она ведет переговоры с братом о бумаге для печатания "Современника", причем, так же как и в письмах с просьбами о деньгах, делает это рассудительно и с большим тактом. Вообще практичность Натальи Николаевны, как она вырисовывается из ее писем, поистине неожиданна и совершенно меняет, с этой точки зрения, сложившееся представление о ее характере. В одном из писем к брату она пишет, что могла бы гарантировать успех "Усачевского дела", если бы оно было передано в "Петербургский сенат", так как у нее "много друзей среди сенаторов", и добавляет: "...если у тебя есть какие ко мне поручения, будь уверен, что я употреблю все мое усердие и поспешность, на которые только способна". В другом письме сообщает о своей возможности оказать помощь в устройстве младшего брата Сережи при помощи протекции со стороны товарища министра внутренних дел Строганова и министра финансов Канкрина. Любопытно, что просьба к брату о том, чтобы ей было назначено из общих доходов семьи Гончаровых содержание, равное тому, которое получают сестры,- это личная инициатива Натальи Николаевны. Свидетельство тому - письмо Пушкина к ней 18 мая 1836 года, где мы читаем: "Новое твое распоряжение, касательно твоих доходов, касается тебя, делай как хочешь..." Пушкин не без иронии добавляет, что ему самому это "все равно", поскольку деньги эти пойдут на пользу "Дюрье и Сихлер" - владельцам модных петербургских магазинов, то есть на наряды Натальи Николаевны.
Понятно стремление некоторых исследователей решительно порвать с привычными представлениями о его жене как о великосветской даме, думавшей только о балах и своих успехах. Новые материалы колеблют подобные представления. Но все же для портрета Натальи Николаевны много еще у нас не хватает, очень многое остается неясным. История и здесь не терпит преувеличений и идеализации. Может быть, со временем будут найдены письма Натальи Николаевны к Пушкину. И сегодня очевидна злонамеренность сплетен врагов Пушкина о его жене, но очевидно также и то, что она не была свободна от влияния своей среды и от предрассудков века. Об этом с достаточной отчетливостью говорит столь частое отсутствие взаимопонимания с мужем, и это, как можно судить по его письмам к ней - письмам, полным любви и вместе горечи, - так часто причиняло ему боль. Правда, история литературы вообще не знает случаев, когда жены гениев были бы им под стать по уровню духовных интересов. Нелегко было Наталье Николаевне быть женой Пушкина. Но нелегко было и Пушкину быть ее супругом. С одной стороны, он гордился ее "торжественной красотой", но с другой - завидовал тем из друзей, "у коих супруги не красавицы, не ангелы прелести, не мадонны..." Признаваясь в этом Наталье Николаевне полусерьезно, полушутливо, он объяснял: "Знаешь русскую песню -
Не дай бог хорошей жены, Хорошу жену часто в пир зовут.
А бедному-то мужу во чужом пиру похмелье, да и в своем тошнит" (письмо в конце сентября 1832 года).
Все это говорит о том, в какую сложную область мы вступаем, изучая облик жены поэта.
* * *
Многое прояснилось для нас сегодня в истории гибели Пушкина, но многое остается еще неясным. Расширение круга исследований предсказывает новые, плодотворные поиски и решения.

|
ПОИСК:
|
© A-S-PUSHKIN.RU, 2010-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'