
Последние годы
"Есть много чудных, поэтических песен, доселе не изданных, - говорил Пушкин в день свадьбы, вернувшись от венца на свою квартиру,- и дело находится в надежных руках Киреевского". - Так рассказывает сын П. А. Вяземского, тогда еще десятилетний мальчик, несший в тот день образ перед женихом и невестой: "С жадностью слушал я высказываемое Пушкиным мнение о прелести и значении богатырских сказок и звучности народного русского стиха"*. Поводом для приводимых слов Пушкина послужил томик песен Кирши Данилова, лежавший на диване поэта. Даже в эти радостные минуты, когда исполнялась его заветная мечта, он говорил о русских песнях, вдохновлявших его.
* (Сочинения П. П. Вяземского. СПБ, 1893, стр. 529. Пушкин жил тогда на Арбате в доме Н. Хитрово {теперь № 53). На доме этом находится мемориальная доска, сооруженная в честь великого поэта.)
"Превосходно читал Пушкин русские песни", - рассказывал С. П. Шевырев*, просвещенный литератор и поэт, тонкий знаток музыки, живописи, истории, восторженный поклонник Пушкина, свидетельствующий, что чтение поэтом русских песен "принадлежит к числу тех плодотворных впечатлений, которые содействовали образованию моего вкуса и развитию во мне истинных понятий о поэзии**".
* (Л. Н. Майков, цит. изд., стр. 331.)
** (Н. С. Тихонравов. Сочинения. М., 1898, том 3, часть 2, стр. 223.)
К числу новых московских знакомств Пушкина этого времени принадлежит композитор Андрей Петрович Есаулов, приятель Нащокина, представлявший собою яркую, талантливую и весьма колоритную фигуру, характерную для типа "неудачников" николаевского времени. Дошедшие до нас музыкальные произведения показывают его выразительное творческое лицо, выделяющее его из общего уровня дилетантов. Скрипкой он, по словам одного его ученика, владел, как "русский Паганини", она "пела и говорила, как человек, в его руках"*.
* ("Памяти Пушкина". Сборник статей СПБ-ского университета 1900, - рукописные воспоминания ученика Есаулова в передаче С. К. Булича "Пушкин и русская музыка", стр. 53-54.)
"Романтическая жизнь А. П. Есаулова заслуживала бы описания", - говорит П. В. Анненков. Однако биографические сведения о композиторе весьма разрозненны и скудны. Он был незаконным сыном помещика Есаулова, и все знали его под той же фамилией, хотя по паспорту он значился Петровым - обстоятельство, которое он тщательно скрывал. В тайне происхождения лежит одна из причин крайне неровного, самолюбивого, гордого и неуживчивого характера Есаулова, - вспомним, какое несправедливое и жестокое отношение встречали в общественных кругах царской России "без вины виноватые" внебрачные дети. Достаточно сказать, что для легализации положения великого русского композитора А. П. Бородина его отец, князь Л. С. Гедианов, должен был записать маленького Сашу "законным" сыном своего камердинера Порфирия Бородина.
Отец А. П. Есаулова также был человеком "знатным и богатым", как свидетельствует тот же ученик композитора, и дал ему хорошее образование "в светском смысле". Ученик этот рассказывает нам о "благородных наклонностях" композитора, о его "неподкупной честности". Он был "неспособен ни на какой низкий поступок, но, к несчастью, вел не всегда трезвую жизнь".
Обостренное самолюбие было причиной его постоянных ссор с начальством, а это влекло за собою многократные переходы с одной службы на другую. Зачастую он долго оставался без места и совершенно без денег. "Образ жизни Есаулова был странен: в большом зале его квартиры вся мебель состояла из стола и двух стульев, прислуги он не держал никакой, сам рубил дрова, мыл белье и готовил обед. Обычным одеянием его служил модный тогда плащ без рукавов из непромокаемой материи, под которым он неизменно носил футляр со скрипкой...".
Нащокин, ощущая несомненную талантливость композитора, принимал живое участие в его судьбе, используя свои близкие отношения с музыкантами и театральной администрацией. В состав организованного Нащокиным квартета входили скрипачи В. И. Живокини (артист московского театра), А. М. Щепин (ученик театрального училища), А. П. Есаулов, игравший на альте, и виолончелист Н. И. Куликов, артист оркестра московских театров, оставивший весьма ценные записки о Пушкине, Нащокине и Есаулове. Благодаря хлопотам Нащокина 30 апреля 1830 года директор московских театров Ф. Ф. Кокошкин принял Есаулова на должность "репетитора оперы", но уже в августе того же года Есаулов покидает эту службу.
В 1833 году композитор находился уже на полном содержании у Нащокина и жил на его квартире. Нащокин ценил крупное музыкальное дарование Есаулова и всеми силами старался помочь ему, снисходительно относясь к неуравновешенному характеру композитора, "видя задумчивый и меланхолический нрав артиста"* - "К просьбам сыграть что-нибудь на скрипке... Есаулов был непреклонен, а иногда без всяких просьб, находясь в обществе, брал скрипку и играл. Соседи Есаулова по квартире передавали, что на него иногда "находило", и тогда он был способен играть всю ночь напролет, не зажигая огня... Нередко Есаулов импровизировал фантазии или вариации на русские песни; поиграет какую-нибудь русскую песню один раз, а потом из этой песни, шут его знает, что начнет играть: песня - не песня, какая-то тралала"**.
* (Н. И. Куликов. Пушкин и Нащокин. "Русск. старина", 188!. VIII, (авг), стр. 602-603.)
** ("Памяти Пушкина", цит. изд., стр. 54.)
Первое печатное произведение Есаулова, насколько нам известно, романс "Ton regard" ("Твой взгляд"), изданный в 1828 году. В том же году издается второй романс, посвященный "русской армии", - "Военная песня". "Московский телеграф" отмечает первую композицию Есаулова следующей рецензией: "Отдаем должную похвалу музыке; она сочинена с большим вкусом и весьма приятна. Это первый еще опыт г-на Есаулова и доказывает прекрасный талант его"*.
* ("Московский телеграф" 1828, № 8 - Обозрение новых музыкальных произведений. Статья подписана: "Любитель музыки".)
Пушкин знал хорошо Есаулова и, так же как и Нащокин, ценил его дарование. К периоду его первого знакомства с Есауловым композитором был издан также романс на слова Жуковского "Утешение" и романс на слова П. Катенина "Певец Услад". После возвращения из Болдина в Москву Пушкин передал Есаулову стихотворение "В последний раз твой образ милый", известное теперь большею частью под названием "Расставание". Композитор положил его на музыку и в том же 1830 или 1831 году издал под заглавием "Прощание"*. Романс принадлежит к числу лучших произведений Есаулова. Отметим также, что стихи Пушкина, на которые был написан этот романс, при жизни поэта отдельно не были изданы в связи с тем, что в них поэт вспоминает свою встречу с Кюхельбекером на станции Залазы, когда осужденного декабриста увозили среди других арестантов на каторжные работы в Сибирь:
* (Романс Есаулова "Прощание" впервые после 1831 г. был перепечатан в "Советской музыке" 1937, №5, стр. 76 - 80. Несмотря на свидетельство Анненкова, долгое время было принято принимать за романс, о котором шла переписка между Пушкиным и Нащокиным, "Гишпанскую песнь" Есаулова ("Ночной зефир"), изданную им в 1834 году. Всесоюзным Пушкинским комитетом во время организации Пушкинской выставки в Москве в 1937 году был приобретен экземпляр неизвестного до тех пор романса Есаулова "Прощание", благодаря чему можно было установить первоначальную редакцию текста и заглавия.)
...Как друг, обнявший молча друга Пред заточением его.
После смерти Пушкина стихотворение было напечатано под названием "Прощание" в "Альманахе на 1838 год", изданном В. Владиславлевым. Характерно, что Жуковский, выпуская в 1841 году посмертное собрание сочинений Пушкина, печатая в IX томе стихотворение под заглавием: "Расставание", из цензурных соображений переделал последний стих: "Перед изгнанием его". С этим "вариантом" стихи Пушкина печатались долгое время.
...В первое лето после женитьбы, когда Пушкин жил в Царском селе, в его переписке с Нащокиным несколько раз упоминается имя Есаулова, который горячо любил великого русского поэта. 20 июня 1831 года Нащокин писал: "Андрей Петрович свидетельствует тебе почтение, он почти столько же тебя знает и любит, как и я, что доказывает, что он не дурак: тебя знать - не безделица. Романс твой так хорош, что способу нет, переправлен, обдуман, чудо. Если б кто бы мог тебе его там разыграть, я бы прислал", и Пушкин тотчас же 26 июня отвечает Нащокину: "...кланяюсь и Андр[ею] Петровичу] - пришли мне его романс, исправленный во втором издании. Еще кланяюсь 0[льге] А[ндреевне], Тат[ьяне] Дм[итриевне], Мат[рене] Серг[еевне] и всей компании". Пушкин имел в виду цыганских певиц (он ошибся в отчестве Тани).
Немного позже, 3 августа, Пушкин снова спрашивает Нащокина: "Что же не присылаешь ты Есауловского романса, исправленного во втором издании? Мы бы его в моду пустили между фрейлинами".
Как видно из двух настойчивых пожеланий Пушкина, романс Есаулова несомненно интересовал поэта. 18 августа Нащокин отвечает Пушкину: "Есаулова нет в Москве - и романса тоже, получил место на 4 т. руб.- Я очень рад. Он в Ярославле; и еще ко мне не писал".
3 декабря 1831 года Пушкин выехал в Москву, где остановился как всегда в доме Нащокина; у него на квартире давно уже жила цыганка Ольга Андреевна, взаимности которой он долго добивался, - "пропадал из-за нее", как выражалась Татьяна Демьяновна.
Ольга Андреевна была, в общем, милая, беспечная, добродушная женщина, но она завела у Нащокина такой "цыганский табор", что даже безалаберному хозяину дома стало невмоготу. Он уже уверял, что к цыганам могут пристать только беглые каторжники или "подобные им, т. е. отпетые и изгнанные из среды людей... да вот я сам, пример"*.
* (Н. И. Куликов. Пушкин и Нащокин. "Русск. старина", 1881, авг., стр. 600.)
"Дом его такая бестолочь и ералаш, - пишет Пушкин жене 16 декабря, - что голова кругом идет. С утра до вечера у него разные народы: игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие, цыганы, шпионы, особенно заимодавцы"... "Вчера Нащо[кин] задал нам Цыганский вечер; я так от этого отвык, что от крику гостей и пенья Цыганок до сих пор голова болит - Тоска, мой Ангел".
Действительно, после женитьбы Пушкин, по свидетельству его современников, стал заметно уравновешеннее как в поведении своем, так и во взглядах на жизнь и искусство. Цыганский быт и богема были ему уже в тягость. Мы не встречаем больше рассказов о посещениях поэтом "Грузин", -
Бегут, меняясь, наши лета, Меняя всё, меняя нас -
говорил поэт в стихах "Прощание", положенных на музыку Есауловым...
...В 1832 году, будучи в Москве, Пушкин задумал свой роман "Дубровский", а в Петербурге начал его писать быстро, запоем, как он любил это делать, особенно в осеннее время. Несмотря на помехи столичной жизни, роман, начатый в октябре 1832 года, уже в январе следующего года был закончен.
Машу Пушкин обрисовывает девушкой "с прекрасным голосом и большими музыкальными способностями". Он отмечает ее "музыкальные успехи", и Дубровский "с большим вниманием следовал за ними" и "часто по целым часам сиживал с нею за фортепьяно".
Очень выразительный эпизод мы встречаем в двенадцатой главе: "Она открыла фортепьяно, пропела несколько нот, но Дубровский... прервал урок и, закрывая ноты, подал ей украдкой записку". Итак, музыка уступает место любви. "Но и любовь - мелодия". Ноты закрыты. К занятиям Маши Пушкин больше уже не возвращается. Но музыка продолжала звучать в "Дубровском".
Деспотичный старик Троекуров характеризуется чрезвычайно колоритным музыкальным штрихом. Старый самодур в минуты наиболее суровых своих предприятий и угрюмых мыслей насвистывает, расхаживая взад и вперед: "Гром победы раздавайся".

Этот "Полонез" Козловского, известный также под названием "Славься сим, Екатерина" (начальные слова припева), являлся, как известно, чем-то вроде русского государственного гимна на рубеже XVIII-XIX столетий. Вот почему Пушкин сделал его как бы лейтмотивом генерал-аншефа Троекурова, насвистывавшего эту официальную мелодию "сердито", иной раз даже "грозно".
Кроме упоминания в тринадцатой главе о духовой музыке во время праздника у князя Верейского, в "Дубровском" есть еще яркий музыкальный штрих в последней главе, где у земляного укрепления, "посреди дремучего леса", караульщик охраняет пристанище разбойников. Все уснули. Вдруг "караульщик сел на пушку верхом и запел во все горло меланхолическую старую песню: Не шуми, мати зеленая дубровушка, не мешай мне молодцу думу думати!" - прием почти парадоксальный благодаря противоречивости "меланхолической" песни, которую "во все горло" запел ночной сторож среди настороженной тишины леса, но зато с какой силой эта песня обрисовывает образ Степки-караульщика! В ином плане Пушкин применил в "Капитанской дочке" эту замечательную русскую песню, которую он, видимо, не только хорошо знал, но и любил.
...Летом 1833 года, когда у Пушкина родился сын, Нащокин приезжал в Петербург на крестины и захватил с собою своих друзей: композитора Есаулова, Куликова и оперного певца Н. В. Лаврова. Они остановились в гостинице Демута, и на следующий же день, 29 июня, Пушкин пришел к ним пешком с Черной речки, где он проводил на даче лето. Вскоре после приезда, по воспоминаниям Куликова, друзья вместе с Пушкиным слушали музыканта, незадолго до того приехавшего из-за границы в Петербург со своеобразным инструментом, который называли "Эоловой арфой" или гармоникой (в Государственном Эрмитаже сохраняется подобная "гляссгармоника"). Среди сочинений Моцарта имеются произведения, написанные для гляссгармоники. Инструмент этот состоял из вращающихся стеклянных валов различного размера, от сильного или слабого нажима смоченных водою пальцев издававших нежный завывающий звук. Артист играл "симфонии и арии знаменитых композиторов старой и новой школы", и, по словам Куликова, произвел сильное впечатление: "Что за гармония! Что за волшебные звуки!.. Бас звучит каким-то страшным гулом, полнее дребезжащей струны контрабаса... Не только все были в восторге, но даже поражены. Пушкин, лежа на диване, заложив руки под голову и закрыв глаза, повторял: и замереть, и умереть можно". Наслушавшись "волшебных звуков" москвичи отправились гулять на Невский и на Неву. Была белая ночь, и Пушкин под впечатлением музыки отправился пешком на дачу на Черной речке*.
* (Н. И. Куликов. Пушкин и Нащокин. "Русск. старина", 1881, авг., VIII, стр. 612-613.)
В этот приезд Нащокин, использовав свое знакомство с директором театра А. М. Гедеоновым, пристроил Есаулова на службу в оркестр императорских театров, и талантливый композитор остался в столице.
К тому времени Есаулов издал в Петербурге "Контрданс для фортепиано" и романс "Она поет, она играет". Есаулов был близок с М. Л. Яковлевым, которому посвятил свой новый романс "Ноктюрн" ("Любила я!"), изданный в сентябре 1833 года.
На службе в театре Есаулов продержался всего несколько месяцев. Уже в середине марта 1834 года Пушкин писал Нащокину: "Андрей Петрович в ужасном положении. Он умирал с голоду и сходил с ума. Соболевский и я, мы помогали ему деньгами скупо, увещаниями щедро. Теперь думаю отправить его в полк капельмейстером. Он художник в душе и в привычках, т. е. беспечен, нерешителен, ленив, горд и легкомыслен; предпочитает всему независимость; но ведь и нищий независимее поденщика. Я ему ставлю в пример Немецких Гениев, преодолевших столько горя, дабы добиться славы и куска хлеба. Сколько ты должен ему? Хочешь, я за тебя и ему заплачу?" Далее в письме Пушкин говорит о запутанных делах своего брата Льва, который "в своем роде такой же художник, как и Андрей Петрович, с той разницей, что за собою никакого художества не знает". Из этой фразы Пушкина можно сделать заключение, что за Есауловым водились "художества", которые и привели его к разрыву с театром. Отмеченные Пушкиным беспечность, нерешительность, гордость, легкомыслие, лень и независимость, которую композитор "предпочитал всему", являлись причиной постоянных его неудач. Под "немецкими гениями", которых Пушкин ставил в пример, он подразумевал, вероятно, Моцарта и Бетховена, - их горестная участь была ему, несомненно, известна.
Пушкин, чья жизнь являлась поистине трудовым подвигом, правильно расценил Есаулова. Через сто лет Горький говорил: "Индивидуализм, превращаясь в эгоцентризм, создает "лишних людей"... "которые, будучи неспособны к борьбе за жизнь, не находя себе места в ней и более или менее отчетливо сознавая бесцельность личного бытия, понимали эту бесцельность только как бессмыслие всех явлений социальной жизни и всего исторического процесса"*.
* (М. Горький. "Доклад на открытии 1-го Всесоюзного съезда советских писателей" 17 августа 1934 года. "Литературно-критические статьи". Гос. изд. "Художеств, литература", М., 1937, стр. 641.)
Дальнейшая судьба Есаулова остается невыясненной, - мы не имеем сведений, устроил ли его Пушкин капельмейстером в полк, как намеревался. Мы знаем, что в 1834 году в пятом номере музыкального журнала А. Варламова "Эолова арфа" был напечатан романс Есаулова "Гишпанская песнь" ("Ночной зефир") и вальс для фортепиано. "Гишпанская песнь" была напечатана также отдельным изданием. В том же 1834 году в Москве был издан его "Меланхолический вальс".
Московские и петербургские друзья помогали Есаулову в делах по изданию. Вероятно, по их настоянию он и сочинял свои произведения. Больше мы уже не встречаем изданий его композиций, за исключением двух культовых хоров. Есаулов последний период деятельности посвящает занятиям с архиерейскими певчими в городе Ряжске близ Рязани, в Орле и Михайлове. В Рязани он принимал участие в организации концерта оркестра Д. Д. Нарышкина и написал концертную увертюру, оставшуюся неизданной, получившую высокую оценку музыкальной критики в Москве в 1909 году после исполнения ее 25 января в одном из концертов Русского музыкального общества*.
* ("Русская музыкальная газета", 1909, № 6-7, стр. 181.)
По рассказу того же ученика Есаулова, характер композитора оставался таким же причудливым и неуживчивым, как и в дни его молодости. Он переживал драму человека, которому, говоря словами Горького, "жизнь кажется тесной, который чувствует себя лишним в обществе, ищет в нем для себя удобного места, не находит его - и страдает, погибает, или примиряясь с обществом, враждебным ему, или же опускаясь до пьянства, до самоубийства"*.
* (М. Горький, цит. соч., стр. 651.)
"Кончил жизнь свою Есаулов трагически в 50-х годах, утонув в реке Трубеже в Рязани... Повидимому, не вполне трезвый, несколько раз, одетый, переходил реку вброд, но вдруг пропал под водой, крикнув, что тонет... Тело Есаулова осталось ненайденным, хотя Трубеж в это время года узок и неглубок"*.
* ("Пушкин". Сборник статей С.-Петербургского университета, Цит. изд., стр. 54.)
Итак, Есаулов на много лет пережил Пушкина, не оправдав, однако, тех надежд, которые возлагал на него поэт. По свидетельству П. В. Анненкова, основанному, вероятно, на рассказах Нащокина, Пушкин начал писать для Есаулова либретто оперы, впоследствии преобразованное поэтом в драму "Русалка". Датировка первых сцен ("Светлица" и начало сцены "Днепр. Ночь. Русалки.") совпадает со временем общения Пушкина с Есауловым. Более того, поэт, как мы знаем, интересовался оперными замыслами Есаулова, - 2 декабря 1832 года он спрашивает Нащокина в письме: "Что Вельтман? каковы его обстоятельства и что его опера?" - Здесь речь идет о работе Вельтмана над либретто оперы "Летняя ночь" для Есаулова, которого, таким образом, Пушкин считал способным создать крупное произведение. Поэтому постановка вопроса о возможности замысла "Русалки" как оперного либретто для Есаулова вполне закономерна. С другой же стороны, мы имеем два высказывания, отвергающие подобную возможность. Белинский (в своей одиннадцатой статье - "Сочинения Александра Пушкина") писал: "Говорят, будто "Русалка" была писана Пушкиным, как либретто для оперы... Это предположение едва ли основательно... пьеса писана пятистопным ямбом, слишком длинным и однообразным для пения".
Действительно, пятистопный ямб является поэтическим стихом, достаточно трудным для музыкальной обработки, - это, повидимому, хорошо понимал Мусоргский, сознательно изменявший пушкинские стихи в "Борисе Годунове". Тяжесть пятистопного ямба сказалась и в операх "Моцарт и Сальери" Римского-Корсакова и "Скупой рыцарь" Рахманинова. Приведем здесь высказывание и А. Н. Серова: "Есть мнение, что Пушкин писал "Русалку" именно, как текст "оперы" для одного из приятелей своих. "Музыкальность" сюжета подтверждается тогда самым своим намерением. Однако текст Пушкина еще далеко не либретто, каким оно должно быть по требованиям музыки. В каждой сцене - основа вполне музыкальна, но слова очень часто под музыку не годятся..."*.
* (А. Н. Серов. "Русалка". Опера А. С. Даргомыжского. "Критические статьи", СПБ, 1892, том I, стр. 539.)
Первоначальные наброски Пушкина - варианты 3-й сцены ("Княгиня-княгинюшка, дитя мое милое" и далее) - написаны стихами народного песенного размера. Начало сцены: "Ночь. Днепр. Русалки." ("Веселой толпою") - стихи, предназначенные для типичной хоровой (песни. Как известно существует предположение о возможности первоначального намерения Пушкина создать "Русалку" как либретто оперы и о том, что, когда предположения об опере отпали, Пушкин продолжал свою драму в размере пятистопного ямба.
В литературоведении до сих пор было широко распространено утверждение, что "прототипом" пушкинской "Русалки" было либретто популярной оперы "Днепровская русалка", шедшей с большим успехом в Петербурге во втором десятилетии XIX века.
Если пересмотреть библиографию статей и книг, посвященных влиянию "Днепровской русалки", то с очевидностью обнаружится полное нежелание проанализировать вопрос о музыкальных впечатлениях поэта от "Днепровской русалки", как будто спектакля с превосходной музыкой талантливейшего русского самородка С. Давыдова, с хитроумными ухищрениями машинистов сцены, создавших волшебную поэтическую картину феерической сказки, вообще и не существовало. Данный вопрос требует пересмотра особенно теперь, после появления работы проф. А. С. Рабиновича, показавшего на основании музыкального анализа наличие полного художественного разрыва между написанными на этот сюжет двумя немецкими операми Кауэра и двумя русскими операми Давыдова, являвшимися, действительно, крупным явлением в русской музыке начала столетия. В операх Давыдова "соотношение двух миров, реального и фантастического, стало конфликтной проблемой, рождающей мучительную раздвоенность в душе героя. Ожили и наполнились загадочными шумами ландшафты, балаганные аттракционы приобрели романтическую таинственность. Неподдельная сердечность зазвучала в речах Лесты, и сквозь олеографическую, условно-рыцарскую маску князя Видостана явственно проглянули живые страдальческие черты "молодого человека XIX столетия" - "Но все это у Давыдова наперекор либретто". "Партитура Давыдовской "Русалки" очень интересна и полна мастерства... Везде заметна уверенная рука первоклассного и глубоко оригинального музыканта"*.
* (А. С. Рабинович. Русская опера до Глинки. Музгиз, 1948, стр. 133-142, 204-234.)
Если допустить наличие влияния "Днепровской русалки" на творчество Пушкина, то во всяком случае следует переключить попытки изыскания подобных "влияний" из области либретто Краснопольского и тем более Генслера прежде всего в область впечатления от музыки Давыдова. Но "Русалка" Пушкина настолько возвышается над "Днепровской русалкой" (и над текстом ее, и над спектаклем в целом, и даже над талантливой музыкой Давыдова), так гениально переключена поэтом из плана легковесной развлекательной феерической оперы в план реалистической народной драмы, что вопрос об этом влиянии представляется нам далеко не существенным. Гораздо более важен вопрос о народных (и далеко не в последнюю очередь - песенных) истоках "Русалки".
В Михайловском и в других деревнях Пушкину приходилось бывать на крестьянских свадьбах. Подтверждением этого факта служит его запись народного обряда и свадебных песен в сборнике Киреевского. Запись эта сделана, несомненно, по личным наблюдениям.
Сцена свадебного пира в "Русалке", как всегда у Пушкина, предельно лаконична и в то же время выразительна. Веселье не ладится. По предложению свата, хор девушек запевает: "Сватушка, сватушка, бестолковый сватушка". - Текст песни очень близок к народным песням, записанным Пушкиным с голоса (они приведены в сборнике П. Киреевского под № 15, 16 и 17*). Это обычная свадебная песня девушек, вызывающих свата на одаривание. Реплика свата содержит в себе отзвуки народных песенных образов.
* (Нумерацию песен сборника Киреевского приводим по изд. Полного собр. соч. Пушкина, изд. Академии Наук СССР, 1949.)
В разгаре общего оживленья, когда свадебное веселье, наконец, наладилось вдруг послышался "Один голос": "По камушкам, по желтому песочку..." - мрачная тема песни об утопленнице, проклинающей своего "мила друга".
Шопот и смятение. Веселье обрывается.
"Какой чудесно-музыкальный контраст "продиктован" тут (великим поэтом, - писал А. Н. Серов. - Веселый хор девушек, комизм свата, смех, шутки, и вдруг - таинственный голос утопленницы, которая невидимо присутствует на свадьбе своего губителя..."*.
* (А. Н. Серов, цит. соч., стр. 599.)
Народный первоисточник установить не удалось. Интересный музыкальный вариант песни сообщил С. А. Бугославский записавший его в окрестностях Михайловского в 1937 году.

К воротишкам привязал, Красной девке приказал: "Красна девица душа, Сбереги добра коня"*.
* (С. А. Бугославский, цит. соч., стр. 187, 204, 208. В приведенном примере местный говор, записанный С. Бугославским, заменяем великорусским.)
Возможно, это и есть сохранившийся в течение ста лет отдаленный перепев той самой песни, явившейся для Пушкина первоисточником созданного им текста.
Сейчас нам очень важно установить ту тональность, в которую переключил Пушкин веселье на свадьбе. "Свадебные песни наши унылы, как вой похоронный", - писал он в заметках "Путешествие из Москвы в Петербург"*. Пушкин превосходно знал обычаи крестьянского брака ело времени:
* (Глава: "Браки". Заметка прежде называлась "Мысли на дороге".)
...Благословил меня отец. Я горько плакала со страха, Мне с плачем косу расплели, Да с пеньем в церковь повели. И вот свели в семью чужую... -
рассказывает няня Татьяны в третьей главе "Евгения Онегина". Судьба молодой жены была нерадостная, сложная, трудная, рабочая. Свадебные песни по своему звучанию чрезвычайно близки причитаниям. "...Шлюсь на русские песни: обыкновенное их содержание - или жалобы красавицы, выданной замуж насильно, или упреки молодого мужа постылой жене"*. Вспомним также свадебную песню, которую пела цыганка Таня перед свадьбою Пушкина, и какое впечатление произвела она на поэта. Замечательные тексты причитаний невесты, записанные им с народного напева, мы видим в песнях сборника П. В. Киреевского.
* (Там же.)
Прозрачная, как бы журчащая песнь русалок звучит в картине "Днепровская ночь". После сцены князя с безумным мельником и вполне реалистического диалога с ловчим снова русалки показываются над водой, и песня возникает, как сказочный фантастический сон.
В драматической коллизии "Русалки" Пушкин отводит песне весьма значительное место, постигая ее власть над человеческим сердцем и тонко используя психологические контрасты.
Русская песня постоянно звучит в творчестве Пушкина, и мы можем проследить его чуткие наблюдения, его впечатления от народного творчества в произведениях, написанных в последние годы жизни поэта.
В конце 1833 года Пушкин написал небольшие очаровательные стихи в духе народной современной рифмованной песни: "Колокольчики звенят". Они посвящены певунье-цыганочке, которая пляшет, машет алой шириночкой и поет-заливается. Это - запоздалый и последний отклик поэта на цыганскую тему, стилизованный под русскую песню.
В 1833 году "История Пугачева" и "Капитанская дочка" были уже вчерне набросаны. Пушкин (подготовил для них большое количество материалов и собрался съездить в Оренбургскую губернию, в те места, где некогда разыгрывалась основная драма пугачевского восстания. 29 августа он выехал из Москвы через Нижний Новгород и Казань аз Симбирск и Оренбург. Несмотря на трудности пути, несмотря на тяжесть и неудобства от передвижений на перекладных (не раз вырывались у Пушкина "дорожные жалобы" в стихах и письмах), поэт предпринимал этот долгий и утомительный путь, чтобы в непосредственном общении с народом приобрести тот опыт, те правдивые (сведения, которые ему нужны были для работы над задуманными произведениями. И вновь погружается Пушкин в неиссякаемый источник народной памяти.
Приехав в Оренбург 18 сентября, в процессе своих работ по собиранию материалов, поэт решил посетить казачье село Бёрды, в семи верстах от Оренбурга, для того чтобы повидать там живых еще стариков - очевидцев восстания. К поэту приехал В. И. Даль, служивший в то время в Оренбурге, и они вместе отправились в станицу.
В Бёрдах Пушкин (встретил старуху Акулину Тимофеевну Бунтову, которая знала и очень хорошо запомнила Пугачева. Она спела Пушкину несколько песен*, сложенных про Пугачева, и поэт записал их**. В песнях описывалось, "как Пугачев воевал и вешал", и был там стих: "Не умела ты, ворона, ясна сокола поймать"***. Бунтова была родом из станицы Нижне-Озерной, упоминающейся в "Песне о капитане Сурине", вошедшей в "Историю Пугачева" ("Примечания"). Возможно, что Пушкин записал эту песню с напева Бунтовой.
* (В. И. Даль. Воспоминания о Пушкине. Майков, цит. соч., стр. 417-418.)
** (Воспоминания Н. А. Кайдалова. Труды Оренбургской ученой комиссии. Оренбург, 1900. вып. 6, стр. 214-215.)
*** (С. Н. Севастьянов. Несколько указаний о пребывании Пушкина в Бердах, там же, стр. 233-234; а также 234-237.)
Два месяца спустя то стопам Пушкина Бёрды посетила Е. З. Воронина, тоже записавшая эти же песни*.
* (Письмо Е. З. Ворониной от 26 ноября 1833 г. "PУCCK. архив", 1902, кн. II, стр. 658-660.)
Пушкин сообщил жене о посещении станицы Бёрды: "В деревне Берде, где Пугачев простоял 6 месяцев, имел я une bonne fortune - нашел 75-летнюю казачку, которая помнит это время, как мы с тобою помним 1830 год"*.
* (Письмо жене 22 окт. 1833. Une bonne fortune - счастливый случай.)
Из Оренбурга*, заехав по дороге в поместье к братьям Языковым, Пушкин (направился прямо в Болдино, куда прибыл 1 октября.
* (Д. Н. Соколов. Пушкин в Оренбурге. "Пушкин и его современники", XXIII-XXIV, стр. 78-81 и 98.)
...Снова наступили творческие дни поздней осени. Создаются "Медный всадник", "Воевода", "Анджело", "Сказка о рыбаке и рыбке", "Будрыс и его сыновья", невидимому, "Пиковая дама", этюды "Рославлева", "Капитанской дочки", окончена "История Пугачева".
Внимание к народным восстаниям, к разбойничьим песням, характерное для юности поэта, ощущается и позже: в "Истории села Горюхина" (наброски плана), в "Дубровском", в "Сценах из рыцарских времен", а затем в "Истории Пугачева" и в "Капитанской дочке".
С любовью продолжая изучение народных песен, великий поэт чутко воспринимал в них и мелодические красоты и отзвуки исторического прошлого, и народную мудрость, (высказанную в аллегорической форме. Так, в примечании ко второй главе "Истории Пугачева" Пушкин приводит солдатскую песнь, сложенную в память капитана Сурина, повешенного Пугачевым: "Из Гурьева городка протекала кровью река". Эту же песнь в ином варианте мы находим и в автографах Пушкина*.
* ("Рукою Пушкина", стр. 457; примечания М. А. Цявловского, стр. 461.)

Сказительница
А в третьей главе есть рассказ о замечательном военачальнике генерал-аншефе А. И. Бибикове, который, попав в немилость у императрицы и получив новое сложное и "многотрудное" назначение, ответил Екатерине на балу цитатой из "простонародной песни, применив ее к своему положению: Сарафан ли мой, дорогой сарафан!..."
В "Истории Пугачева" мы встречаемся еще с одной записью народных причитаний, печальной и глубокой. Любовь поэта к простому народу, его сочувствие к народному горю русской женщины, к трагическому исходу крестьянского восстания сказались в краткой и выразительной записи. Когда восстание казаков потерпело поражение, настала весенняя оттепель, "реки вскрылись и тела убитых под Татищевой поплыли мимо крепостей. Жены и матери стояли у берега, стараясь узнать между ними своих мужьев и сыновей. В Озерной старая казачка [Разина] каждый день бродила над Яиком, клюкою пригребая к берегу плывущие трупы и приговаривая: Не ты ли, мое детище? Не ты ли, мой Степушка? Не твои ли черны кудри свежа вода моет? и видя лицо незнакомое, тихо отталкивала труп..."*... "и плакала",- добавлял Пушкин в своих "Записях устных рассказов". Называя казачку по имени Разиной, а погибшего сына ее Степаном, не хотел ли поэт возвести образ старухи в некий символ русского материнства, объединяющий бунтарское начало казачьих восстаний "с весьма отдаленными от них идеями, которые когда-то проводил Болотников, Разин..."**.
* ("История Пугачева", гл. 5 и "Примечания" к ней.)
** (М. Горький, - цитировалось нами в главе V (стр. 71).)
Причитания эпохи пугачевского восстания долго держались в народе. Одна такая "песня-причитание" дожила до наших дней: "Емельян ты наш, родный батюшка"*. Вольнолюбивый народ бережно хранил в памяти вековечную мечту о раскрепощении. И великий поэт русский пламенным стихом своим утверждал веру в осуществление этой мечты, в то, что "взойдет она, заря пленительного счастья". Пушкин знал, что "на обломках самовластья" будет начертано его имя - имя гениального выразителя народных дум и чаяний.
* ("Песни и предания о Разине и Пугачеве", 1935, изд. "Academia".)
...В последние годы жизнь поэта протекала в суете бесконечно тяготивших его придворных встреч, в бесконечных балах, раутах, официальных обедах, - обо всем этом делал он краткие записи в своем дневнике. "Лощеный Петербург его губит", - писал Денис Давыдов*.
* (Д. В. Давыдов. Сочинения. СПБ. 1883, том III, стр. 187.)
Хотя Белинский и отмечал удивительную способность Пушкина быть как у себя дома во "многих противоположных сферах жизни*, придворный плен тяжко давался ему.
* (Белинский. Сочинения Александра Пушкина, статья пятая.)
Неволя, неволя, боярский двор. Стоя наешься, сидя наспишься, -
тоскливо тянул он эту "крепостную" песню, "позевывая и потягиваясь" во время скуки на придворном балу*.
* (Л. Д. Шевич в передаче П. Бартеенева. "Русск. архив", 1889, III, стр. 124.)
"Грустно!.. тоска...", - часто протяжно напевал он, прохаживаясь по комнате, заложив руки в карманы*.
* (Н. М. Смирнов. Из памятных заметок. "Русский архив", 1882, 1, стр. 233.)
"Не дай мне бог сойти с ума", - вырвалось у него в стихах 1833 года, и опять глубокой эмоциональностью, выливающейся из наболевшего сердца, звучит в них песня:
Когда б оставили меня На воле, как бы резво я Пустился в темный лес! Я пел бы в пламенном бреду, Я забывался бы в чаду Нестройных, чудных грез... И силен, волен был бы я...
В "Дневнике", который поэт писал в течение года (с ноября 1833 по январь 1835), сохранилось несколько записей, проливающих свет на его музыкальные впечатления этого времени.
2 апреля 1834 года - запись о Н. В. Кукольнике: "Не знаю, имеет ли он талант... Он хороший музыкант. Вяземский сказал об его игре на фортепьяно: il bredouiille en musique comme en vers (он лепечет в музыке, как в. стихах)".
Несмотря на то, что литературная деятельность Н. В. Кукольника только что начиналась, Пушкин очень метко сразу же определил его дарование: Кукольник был, несомненно, более талантливым музыкантом, чем поэтом, что видно по отзывам многих современников. Е. А. Драшусова в своих "Воспоминаниях" рассказывает о его выразительных импровизациях на фортепиано "с чувством и увлечением" 28 января 1834 года в присутствии Пушкина, Жуковского, Вяземского, Крылова и др.*. Поэт А. Н. Струговщиков говорит о "чутком и музыкальном ухе" Кукольника и знаниях его в области контрапункта**. Гр. М. Ф. Толстая восторженно рассказывает, как он "фантазировал" на фортепиано "и переходил из мотива в мотив, точно ворковал что-то, и тихие звуки от игры его так и лились прямо в душу"***. Школьный товарищ Кукольника Гоголь вспоминает, как тот в прежнее время "соберет около себя толпу и толкует или о Моцарте... или движет эту толпу за собою испанскими звуками гитары"****.
* ("Русск. вестник", 1881, № 9, стр. 152.)
** ("Русск. старина", 1874. № 1, стр. 703.)
*** ("Историч. вестник", 1894, № 8, стр. 332.)
**** (Письмо Гоголя А. С. Данилевскому в нач. 1833 г.)
Кукольник в издаваемых им органах ("Художественная газета", "Дагерротип", "Иллюстрация") помещал свои статьи по теории музыки, и его высокой музыкальной одаренностью объясняется продолжительное общение с ним Глинки, написавшим несколько романсов на его слова и музыку к драме "Князь Холмский".
Пушкин, скептически относясь к поэтическому творчеству Кукольника, сказал, что "в нем жар не поэзии, а лихорадки".
14 апреля в дневнике имеется пометка о посещений благотворительного концерта в зале Энгельгардта: "Двор в концерте - 800 мест и 2000 билетов!"
Концерт был необычайно пышный. Исполнялись две увертюры: к операм Спонтини "Олимпия" и "Фра-Дьяволо" Обера, концерт для скрипки и виолончели Маурера (в исполнении А. Ф. Львова и Матв. Виельгорского), вариации для фортепиано Герца (в исполнении пианистки В. П. Кротовой), вариации для виолончели Мих. Виельгорского (в исполнении его брата). Громадный успех имели вариации для скрипки на русские темы А. Ф. Львова в исполнении автора. Грандиозная капелла великосветских аматеров исполнила хор из "Фенеллы"*.
* (См. "Сев. пчела", 1834, 13 апр. № 84, 16 апр., № 86, а также "Русск. архив" 1904, I, стр. 417.)
На концерте присутствовал император Николай I с семьей. K. Я. Булгаков рассказывает в письме к брату о невыносимой "жаре и давке".
17 мая поэт был на дневном концерте в великолепном зале Нарышкина, о чем сообщил в письме к жене: "...пели новую музыку Вельгорского на слова Жуковского"*. Концерт был также весьма пышный**.
* (Письмо от 18 мая 1834 г.)
** (См. "Сев. пчела", 1834, 15 мая № 108, 17 мая № 110.)
Известно, что жена поэта, Наталья Николаевна, погруженная в мелкие "заботы суетного света", была равнодушна к поэзии, не высказывая никаких интересов ни к ней, ни к другим (областям культурной жизни. Так же равнодушна была она, вероятно, и к музыке, которую продолжал страстно любить Пушкин. Правда, прежние музыкальные кружки, группировавшиеся в свое время около Дельвига и Олениных, распались. Но ближайший друг поэта Нащокин в начале 1834 года тайком от Ольги Андреевны обвенчался с Верой Александровной Нарской. "После женитьбы он вел жизнь уже не на цыганский лад..." Он приобрел уютный и хорошо обставленный дом. Когда Пушкин жил у них, В. А. Нащокина часто играла на гитаре, пела*. Она рассказывает, что поэт сам "часто просил играть на фортепиано и слушал по целым часам"**, - в этих скупых словах мы видим еще одно свидетельство того, какой насущной потребностью была музыка для Пушкина.
* (П. И. Бартенев. Рассказы о Пушкине, цит. изд., стр. 46.)
** (В. А. Нащокина. Воспоминания. "Новое время", 1898, №8122, иллюстр. прилож.)
Его неизменно тянуло в деревню, где он мог общаться с народом среди родной природы и спокойно творить.
...На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля - Давно, усталый раб, замыслил я побег В обитель дальную трудов и чистых нег.
...После одного из его наездов в Болдино, в ноябре 1834 года, поэт снова встретился с вернувшимся к тому времени из-за границы Глинкой. И Пушкин передал ему стихи, которые, помимо музыки, так и не были напечатаны при жизни поэта: "Я здесь, Инезилья". Глинка тотчас же положил их на музыку и издал в том же году.
Глинка постоянно посещал вечера В. А. Жуковского и вспоминает о зиме 1834-1835 года. "Пушкин, кн. Вяземский, Гоголь, Плетнев были постоянными посетителями... Кн. Одоевский, Виельгорский бывали там нередко... Иногда вместо чтения пели, играли на фортепьяно"*. Этот период общения с Глинкой, в котором Пушкин к концу своей жизни видел надежду и оплот русской музыки, принес, несомненно, много ярких впечатлений.
* (Глинка. Записки, стр. 153.)
В 1834-1835 году Пушкин написал главы незаконченной повести "Египетские ночи", в которой есть примечательные эпизоды, заслуживающие нашего особенного внимания как показатель того, как высоко оценивал Пушкин силу эмоционального воздействия музыки.
При появлении незнакомца в кабинете Чарского, тот принимает его за музыканта, который "собирается дать несколько концертов на виолончеле и развозит по домам свои билеты". - "Вы музыкант?" - спрашивает его Чарский. На другой день он навещает своего нового знакомого в гостинице. Неаполитанец, собираясь исполнить первую импровизацию, "взял со стола гитару - и стал перед Чарским, перебирая струны костлявыми пальцами..." Чарский дал ему тему. "Глаза итальянца засверкали, он взял несколько аккордов, гордо поднял голову, и пылкие строфы, выражение мгновенного чувства, стройно излетели из уст его..."
Наступил вечер публичной импровизации. "Музыканты со своими пульпитрами занимали обе стороны подмостков..." "Наконец в половине осьмого музыканты засуетились, приготовили смычки и заиграли увертюру из Танкреда". Здесь, конечно, промелькнуло воспоминание Пушкина о спектаклях в салоне Зинаиды Волконской, исполнявшей свою коронную роль в опере Россини "Танкред".
"- Всё уселось и примолкло - последние звуки увертюры прогремели". Тема импровизации выбрана. "Уже импровизатор чувствовал приближение бога... Он дал знак (музыкантам играть... Лицо его страшно побледнело, он затрепетал как в лихорадке..." Пушкин описывает его состояние чрезвычайно похожим на состояние Мицкевича во время его импровизаций: "...глаза его засверкали чудным огнем... вдруг шагнул вперед, сложил крестом руки на грудь... музыка умолкла... Импровизация началась". Источником вдохновения явилась музыка.
Для Пушкина вернейшим источником вдохновения была русская песня. Как мы многократно уже убеждались, он любил ее, изучал и широко популяризировал в своем творчестве. С чувством национальной гордости сделал он свой вклад и в ознакомление Запада с сокровищами отечественного народно-песенного творчества. В июне, в последнее лето своей жизни, живя на даче на Каменном острове, Пушкин перевел на французский язык одиннадцать русских песен по просьбе Леве-Веймарса*. Среди них была одна песня на излюбленную тему о Степане Разине.
* (См. "Рукою Пушкина", стр. 611-616; статья М. А. Цявловского, стр. 616-624.)
...19 октября 1836 года поэт, над головой которого сгущались облака гнусной интриги, принял участие в праздновании лицейской годовщины, последней годовщины в его жизни. Пели, конечно, "гимны". Пушкин начал читать свои стихи и остановился, не дочитав, - слезы покатились из глаз. Празднование происходило на квартире у Яковлева. Год назад была издана его лучшая песнь "Зимний вечер" на слова Пушкина ("Буря мглою небо кроет"). А теперь буря ожидала поэта, расправу с которым готовило самодержавие руками иноземных титулованных интриганов.
В описываемый нами день Пушкин закончил послесловие к своей "Капитанской дочке", а 1 ноября он читал ее у Вяземского*. Через всю повесть проходит русская правдивая, бесхитростная песня, с гениальной силой преломившаяся в творчестве Пушкина.
* (Письмо П. А. Вяземского к И. И. Дмитриеву от 2 ноября 1836 г "Русский архив", 1868, кн. IV - V, стр. 650.)
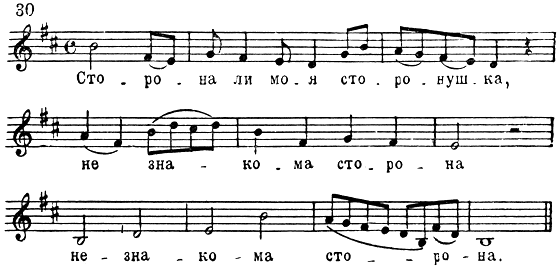
Что не сам ли я на тебя зашел, Что не добрый ли да меня конь завез: Завезла меня, доброго молодца, Прыткость, бодрость молодецкая, И хмелинушка кабацкая.
Этот чудесный эпиграф ко второй главе сразу вводит нас в широкие просторы русских степей. Мелодия рекрутской песни (в записи В. Одоевского*) необычайно глубока, искрения и выразительна.
* (Тетради черновых музыкальных набросков В. Ф. Одоевского хранятся в Гос. центр, музее музыкальной культуры.)
Эпиграф к следующей главе: "Мы в фортеции живем, хлеб едим и воду пьем..." - своим непритязательным строем солдатской песни напоминает заинтересовавшие Пушкина песни Архипа-Лысого.
В четвертой главе приводятся стихи Гринева: "Мысль любезну истребляя". Пушкин в несколько измененном виде выписал их из песенника Новикова или из сборника Львова-Прача, где приводится и (мелодия песни. Этот романс принадлежит к тем мещанским песням, о которых мы говорили в связи с романсами Параши в поэме "Домик в Коломне". Швабрин приравнивает его к "любовным куплетцам" Тредьяковского.
В этой же главе, пользуясь приемом раскрытия образа через песню, Пушкин приводит второй раз в своем творчестве песню "Капитанская дочь, не ходи гулять в полночь", как любимую песню Швабрина*. Эта "скорая" песня и мелодией своей, и ритмом, и содержанием текста чрезвычайно подходит ко всему внутреннему облику нагловатого, циничного Швабрина.
* (В "Барышне-крестьянке" эта песня упоминается как любимая песня Насти - ветреной наперсницы героини повести.
В ранней рукописной редакции Пушкин писал, что Настя распевала другую песню -
Вечерком румяну зорю
Шла я в грусти посмотреть,
А пришла всё к прежню горю,
Что велит мне умереть.
(Слова Н. П. Николаева).)
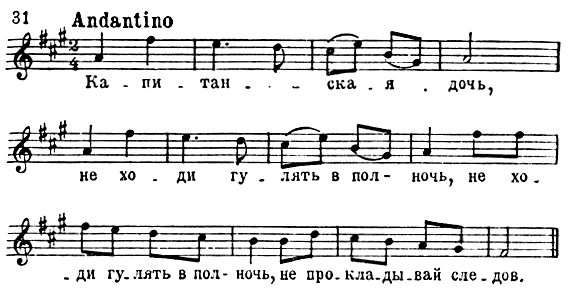
В песне рассказывается, как у капитанской дочки подломился каблучок и она упала на землю в ожидании, что ее подымет купчик молодой, - "Павлушенька, душенька, сердце-радость, подыми". Но купчик отказывает ей: "со сторон люди глядят".
Эпиграфом к пятой главе Пушкин избирает народные песни. Строка "Ах ты, девка, девка красная" - встречается в целом ряде русских песен. Приводимый напев взят из сборника Прача:
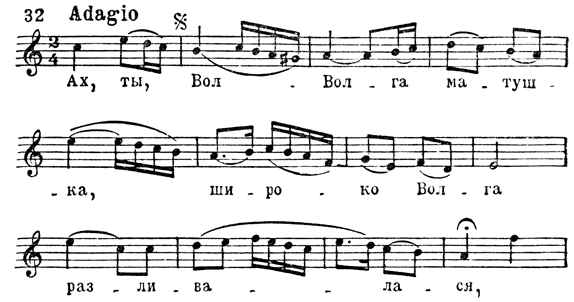
Молодец под кудрявою яблонькой журил-бранил девку и учил ее:
Ах ты, девка, девка красная, Не ходи, девка, молода замуж... ...Накопи, девка, ума разума, Ума-разума, приданова.
Этот очень широкий, "протяжный" распев любовной песни - один из тех, которые требуют большого голоса и глубокого дыхания у певца.
Текст второй части эпиграфа также встречается во многих народных песнях, например, в песне "Не спала то я, младешенька".
Протяжный напев более простого мелодического построения с очень трогательным и печальным содержанием: девушка упустила ясна-сокола; он летит за сине море, садится на кораблик, с которым уезжает гостинный сын. Тот играет "в звончаты гусельки" и утешает девушку: "не плачь! -
Буде лучше меня найдешь, позабудешь, Буде хуже меня найдешь, вспомянешь.
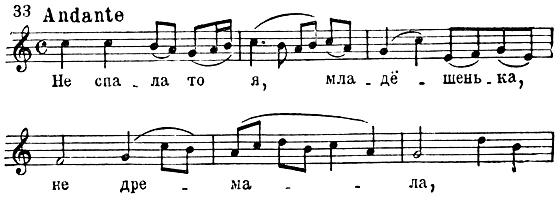
Эпиграф шестой главы, повествующей о начале казачьего восстания, - обычная былинная запевка:
Вы, молодые ребята, послушайте, Что мы, старые старики, будем сказывати.
Здесь невольно напрашивается мысль о том, что Пушкин этими словами обращался к молодому поколению, призывая его продолжить дело, начатое "стариками".
Эпиграфом главы "Приступ" взята народная песня: "Голова ль моя головушка, голова послуживая...". Здесь Пушкин приводит одну из интереснейших казачьих "разбойничьих" песен, посвященных, повидимому, участи беглого служивого, отдающего себе отчет в том, что его ожидает "петелька шелковая".
Эпиграф двенадцатой главы "Как у нашей у яблоньки" подчеркивает сиротство Марии Ивановны в минуты соединения ее судьбы с Гриневым. Это одна из тех "свадебных песен", о которых уже была речь в связи с "Русалкой": "свадебные песни наши унылы как вой похоронный". Подобные две песни о "невесте сироте" ("Много, много у сыра дуба", "Ты река ли моя, реченька") Пушкин записал в Михайловском и включил в сборник Киреевского (№ 20, 21).
Народные песни в "Капитанской дочке" звучат не только в эпиграфах. Помимо "любовных куплетцев" Гринева и песни Швабрина о "капитанской дочке", о которых мы уже говорили, в черновых вариантах шестой главы, Пушкин рассказывает о том, как Гринев, подходя к дому, услышал "звонкий голосок" своей возлюбленной: "Мария Ивановна напевала простые и трогательные слова старинной песни:
Во беседах во веселых не засиживайся, На хороших, на пригожих не заглядывайся".
Самое выразительное поэтическое применение народной песни мы (Встречаем в восьмой главе. Пугачев пирует со своими товарищами. Среди казацких старшин выделяется Чумаков, "молодой казак, стройный и красивый". По требованию Пугачева, он "затянул тонким голоском заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором:
Не шуми, мати зеленая дубровушка, Не мешай мне, доброму молодцу думу думати. Что заутра мне доброму молодцу в допрос итти Перед грозного судью, самого царя. Еще станет государь-царь меня спрашивать: Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын, Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал Еще много ли с тобой было товарищей? Я скажу тебе, надежа православный царь, Всеё правду скажу тебе, всю истину, Что товарищей у меня было четверо: Еще первый мой товарищ темная ночь, А второй мой товарищ булатный нож, А как третий-то товарищ, то мой добрый конь, А четвертый мой товарищ, то тугой лук, Что рассыльщики мои, то калены стрелы. Что возговорит надежа православный царь: Исполать тебе, детинушка крестьянский сын, Что умел ты воровать, умел ответ держать! Я за то тебя, детинушка, пожалую Среди поля хоромами высокими, Что двумя ли столбами с перекладиной.
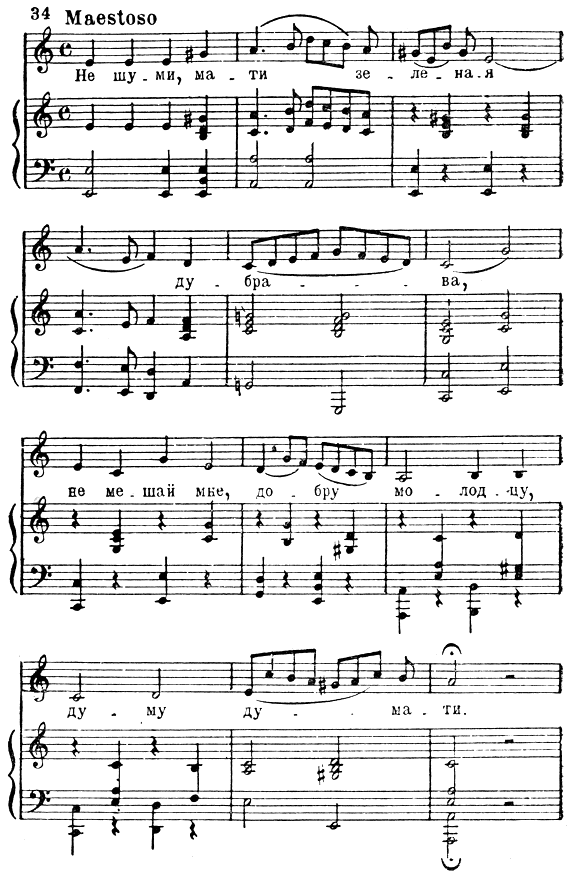
Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, - все потрясало меня каким-то пиитическим ужасом".
По мелодической основе, и по содержанию текста эта песня - одна из самых выразительных среди всех песен, упоминаемых в произведениях Пушкина*.
* (Приведенный нотный пример казачьей песни взят нами из не переиздававшегося с 1831 года сборника "Народные руские песни И. А. Рупини". Имеются также другие, более поздние записи, сильно отличающиеся от приводимого варианта мелодической основой: в "Сборнике русских народных лирических песен Н. М. Лопатина и В. В. Прокунина. 1899", и в "Сборнике 115 русских народных песен Д. Кашина". Все три записи среднероссийской полосы, в то время как происхождение песни - казачье (текст сборника Чулкова также среднероссийского пересказа). Пушкин знал песню скорее всего по наиболее распространенному варианту И. А. Рупина, с которым его связывало и личное знакомство. Приведенный в повести характер звучания "заунывной" песни, ее "унылое" выражение подтверждает наше предположение, так как обычное звучание казачьих песен - горячее, бодрое, удалое и веселое. Если бы Пушкину довелось слышать данную песню в казачьих станицах, он наверняка записал бы ее вариант.)
...8 ноября 1836 года старые лицейские друзья собрались у Яковлева, но темой разговора была уже не поэзия Пушкина, не музыка Яковлева, а позорный пасквиль, полученный многими друзьями поэта*. Пружины гнусной интриги, позорившей семейную честь Пушкина, были приведены в действие, и зиме этой суждено было стать последней зимой в жизни великого поэта.
* (Я. К. Грот. "Пушкин. Его лицейские товарищи", стр. 282.)
...М. И. Глинка записывает в своих воспоминаниях: "Жуковский в конце зимы с 1836 на 37 год дал мне однажды фантазию: "Ночной смотр", только что им написанную. К вечеру она уже была готова, и я пел ее у себя в присутствии Жуковского и Пушкина. Матушка... искренне радовалась видеть у меня таких избранных гостей"*.
* (Глинка. Записки, цит. изд., стр. 184-185.)
Знал ли Глинка и его искренне и наивно радующаяся матушка, что творилось тогда в душе его "избранного гостя"?
...27 ноября 1836 года Пушкин был на премьере "Ивана Сусанина". Куликов рассказывает: "Здесь я видел в последний раз Александра Сергеевича: его кресло было крайнее у прохода в 11-м ряду... В антрактах всё интеллигентное общество из первых рядов подходило к нему с похвалами Глинке"*. Успех оперы был необычным, даже на третий спектакль невозможно было достать билетов**.
* (Н. И. Куликов, цит. соч. "Русск. старина", 1881, август, VIII, "стр. 614.)
** (Письмо М. П. Свердобина к Б. А. Вревскому, 28 ноября 11836, см. "Пушкин и его современники", XXI-XXII, стр. 396.)
"С оперой Глинки, - пишет В. Ф. Одоевский, - является то, что давно ищут и не находят в Европе, - новая стихия в Искусстве, и начинается в его Истории новый период: период Русской музыки. Такой подвиг, скажем, положа руку на сердце, есть дело не только таланта, но и гения"*.
* ("Северн. пчела", 1836, № 280.)
Через две недели, 13 декабря, поэт присутствовал на чествовании Глинки у своего давнишнего приятеля, директора казенных театров А. В. Всеволожского. Совместно с друзьями он написал слова для "Канона в честь Глинки" с музыкой Одоевского и Виельгорского*.
* (Глинка, цит. изд., стр. 180.)
Приводим канон, первый куплет которого (см. стр. 267) был сочинен Виельгорским, второй - Вяземским, третий - Жуковским и последний - Пушкиным.
За прекрасную новинку Славить будет глас молвы Нашего Орфея Глинку От Неглинной до Невы. В честь толь славныя новинки Грянь, труба и барабан, Выпьем за здоровье Глинки Мы глинтвейну стакан. Слушая сию новинку, Зависть, злобой омрачась, Пусть скрежещет, но уж Глинку Затоптать не может в грязь.
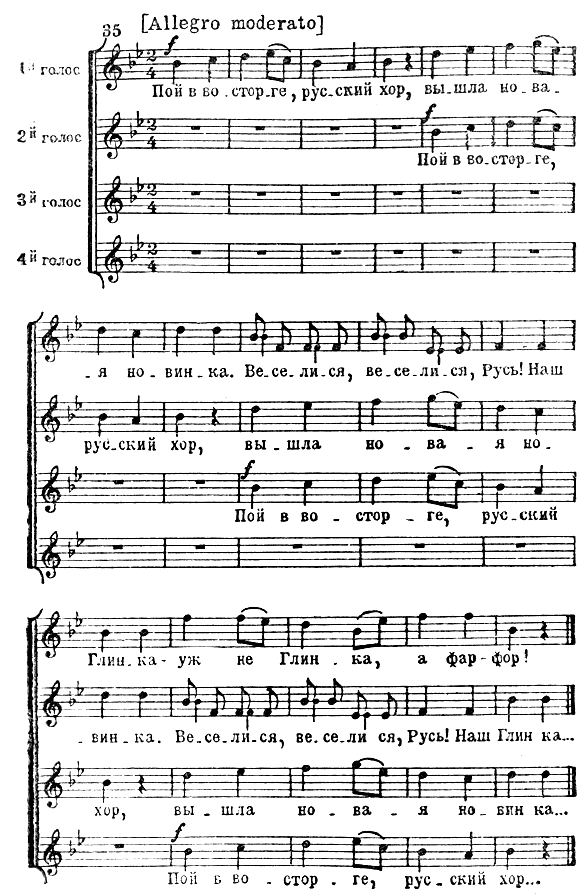
Можно согласиться с И. Р. Эйгесом*, связующим задержание пушкинского четверостишия с переживаниями самого поэта, который отдавал себе отчет и в том, что происходило вокруг творцов русской классики, и в то же время, - в бессилии бушевавших вокруг них темных сил. Действительно, эти силы смогли убить Пушкина и отравить существование Глинке, но не были в состоянии "затоптать в грязь" великие творения русских гигантов. Однако необходимо решительно отвергнуть высказывание того же И. Р. Эйгеса, который, говоря о первенце русской оперной классики, пишет: "От Пушкина не могла ускользнуть реакционная сущность оперы, утверждавшей "незыблемость" основ самодержавия и подымавшей на щит холопскую преданность к царям и православию"**. Можно смело утверждать, что если Эйгес не понял оперы Глинки, то Пушкин ее во всяком случае понял. В "Иване Сусанине" Глинки Пушкин видел бессмертное творение национального гения русского народа, вдохновенный гимн его мужеству, патриотической мощи и самоотверженности, - видел и горячо приветствовал "утреннюю зарю русской оперы", как назвал "Сусанина" академик Б. В. Асафьев. В сердце Пушкина жила память о погибших декабристах, о Рылееве, который за месяц до восстания писал поэту: "На тебя устремлены глаза России; тебя любят, тебе верят, тебе подражают. Будь Поэт и гражданин".
* ("Музыка в жизни и творчестве Пушкина", стр. 120-121.)
** (Там же, стр. 118.)
"И далеко не случайно первенец русской оперной классики был создан на сюжет "Думы о Сусанине" Кондрата Рылеева, который и сам не мог "в роковое время позорить гражданина сан" и "изнывать кипящею душой под тяжким игом самовластья", и в костромском крестьянине видел прежде всего образ национального героя - патриота, воплотившего в себе лучшие черты нашего народа, всегда служившие надежным залогом его будущего", - отмечалось в журнале "Театр" за 1946 год (№ 10).
Не "реакционную", а народно-патриотическую сущность оперы Глинки понял Пушкин и предсказал бессмертие в веках своему другу.

М. И. Глинка. Фрагмент этюда К. П. Брюллова к росписи Исаакиевского собора. Портретное тожество Глинки установлено И. Репиным в 1899 году
Подчеркиваем здесь еще раз, что Глинку и Пушкина связывали не только искренние и сердечные личные отношения, но и общность великого дела, совершавшегося ими, - дела утверждения национального величия русской художественной культуры. И если Пушкин восторженно приветствовал "утреннюю зарю" русской оперы, то Глинка мечтал, что следующее произведение его будет написано именно на пушкинский сюжет. По собственному свидетельству Глинки, он надеялся, что Пушкин примет участие в его работе над новой оперой - "Руслан и Людмила", "надеялся составить план по указанию Пушкина". Он интересовался теми переделками, которые Пушкин собирался сделать в своей юношеской поэме, "но преждевременная кончина не допустила меня исполнить этого намерения"*/sup>.
*/sup> (Глинка, там же, стр. 194, 222.)
Опера "Руслан и Людмила" создавалась уже после смерти Пушкина. И хотя многие стихи поэмы и не вошли в либретто оперы, нет сомнения в том, что именно пушкинский гений вдохновил Глинку, с чудесною силой раскрывшего в этом произведении народно-национальные черты.
...О встречах с Пушкиным в музыкальном окружении в последние месяцы его жизни вспоминает В. А. Соллогуб, рассказывая о салоне В. Ф. Одоевского: "Я видел тут измученного Пушкина во время его кровавой драмы"*/sup>.
*/sup> (В. А. Соллогуб. "Воспоминания", цит. изд., стр. 307-308.)
О трагических днях января вспоминает И. С. Тургенев*: "Пушкина мне удалось видеть всего еще один раз за несколько дней до смерти, на утреннем концерте в зале Энгельгардта. Он стоял у двери, опираясь на косяк и скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом... бесцеремонное внимание, с которым я уставился на него, произвело, должно быть, на него впечатление неприятное: он словно с досадой повел плечом, - вообще, он казался не в духе, - и отошел в сторону".
* (И. С. Тургенев. "Литературные и житейские воспоминания", 1. "Литературный вечер у Плетнева", изд. писат., Л., 1934, стр. 63.)
Переживая глубокие и страшные душевные потрясения, поэт продолжал общаться с музыкантами, продолжал слушать музыку, верный словам своей "Элегии":
Порой опять гармонией упьюсь...
27 января 1837 года, в день дуэли, Пушкин "встал весело, в 8 часов - после чего много писал..." Перед самой дуэлью в ожидании К. К. Данзаса, своего секунданта, "ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни...", - так рассказывает В. А. Жуковский.
Среди друзей поэта, окружавших его смертное ложе, находился Мих. Юр. Виельгорский.
...В пятницу 29 января 1837 года в 2 часа 45 минут Пушкин скончался.
Опекунами детей и состояния покойного были назначены Жуковский, Строганов, Тарасенко и друг Пушкина, композитор Михаил Юрьевич Виельгорский. Опекунами литературного наследия - Жуковский, Плетнев и Одоевский.
|
ПОИСК:
|
© A-S-PUSHKIN.RU, 2010-2021
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://a-s-pushkin.ru/ 'Александр Сергеевич Пушкин'